
30 глав АСТ: интервью с Евгением Водолазкиным
«30 глав» продолжаются. Это серия встреч с писателями и знаковыми авторами издательства, приуроченная к тридцатилетнему юбилею АСТ. И сегодня у нас в гостях — лауреат «Большой книги», «Ясной Поляны», писатель и филолог, специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин.
— Евгений Германович, здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Начнем говорить о вашей новой книге. Она называется «Сестра четырех». Журналисты начали писать, что вы впервые пробуете себя в качестве драматурга. Если открыть оглавление, то здесь 4 пьесы, 2 из них были опубликованы ранее. Это «Пародист» и «Музей». По сути, в ней две старых пьесы и две новых. Почему вы решили вернуться к опыту драматурга?
— У меня всегда было хорошим правилом между романами писать пьесу. Вот футболисты в межсезонье играют в волейбол. Это для меня было такой разминкой мышц, работой над диалогами. А почему я решил вернуться к пьесам именно сейчас, в пандемию? Потому что пьеса — наиболее прямой и действенный род словесности. А диалог — наиболее человечный вид письма. При этом у меня нет амбиций быть драматургом. Это, скорее, драматургия прозаика. Я просто-напросто отсекаю от прозаического произведения лишние части и оставляю диалог. И вот этот диалог получается в виде пьесы.
— На обложке написано: «Между прозой и драматургией если не пропасть, то внушительных размеров овраг, преодолеть который отваживается редкая птица». Вспоминается Гоголь: «Редкая птица долетит до середины Днепра…» То есть вы та самая редкая птица? Насколько тяжело было преодолеть для вас этот овраг?
— По меньшей мере непросто это было. И я действительно был этим пернатым существом, которое преодолевало овраг. Но преодолевало его прозаически, не как драматург. В общем, для меня это была некоторая встряска.
— Действие одной из пьес — разберем пьесы по полочкам — происходит в инфекционной больнице имени Альбера Камю. Это дань уважения пандемии и тому, что «Чума» в топе продаж по всему миру? Или это было написано до пандемии? Вы будущее узрели?
— Я не настолько пророк, чтобы предвидеть все детали. Я как раз стал писать во время пандемии, когда она началась. Почему? Меня изумило то, что раньше тоже бывали пандемии — грипп, еще какие-то инфекционные болезни, но такого, чтобы весь мир замер, — такого не было никогда. Это было совершенно беспрецедентно. И это, собственно, подвигло меня к тому, чтобы написать об этом пьесу. Я пытался разобраться сам в том, что произошло.
Водолазкин Евгений Германович
— При этом вы обычно избегаете современности. Вы ведь, как доктор наук, специалист по древнерусской литературе, используете глубокий анализ темы. Настолько вас поразила современность, что вы решили ее проанализировать?
— Да. Вы понимаете, что значит «беспрецедентное событие»? Например, страшные войны, они хотя и страшные, и пугают, но они были уже, были и революции. Но не было такого случая в истории, чтобы из-за пандемии закрывали на карантин весь мир. Весь мир! Это же совершенно удивительно, и поэтому я решил ответить — по крайней мере себе — на вопрос: «Что происходит?» Мои герои спорят — и мало-помалу что-то вырисовывается.
В «Сестре четырех» речь идет о людях, которые случайно оказались в одной палате, в одном пространстве. Они больны коронавирусом и спорят о его происхождении. Они вообще начинают полагать, что скоро умрут. Так им дали понять. И они начинают каяться друг перед другом. Выясняется, что писатель 15 лет ничего не писал, что депутат не депутат, а проходимец, что доктор не оканчивал медицинского вуза. И только разносчик пиццы там — это действительно разносчик пиццы. И вот это такое приготовление к смерти. Там и смерь присутствует. Но выясняется, что даже перед лицом смерти они все равно толком не могут сообразить, что им делать с их жизнями и как их оценивать. И в этом смысле это довольно грустная вещь.
— Вот Альбер Камю стал популярен, потому что все подумали: «Вот книга о нашей чуме!» Но он-то писал совсем о другой чуме...
— Да, о коричневой чуме...
— А насколько такие заблуждения, когда мы уверены в одном, а на деле смысл совсем другой, насколько они часто случаются? И насколько часто вы с ними сталкивались, с такими общеизвестными заблуждениями?
— Это очень частое дело. Заблуждения и мифология — это то, что сопровождает знание. Знание ведь идет не только прямыми путями. Оно идет влево, вправо, вниз, вверх. Например, слово «довлеть». Сейчас большинство людей скажет, что это «давить в моральном смысле». На самом деле ничего подобного. «Довлеть» — это «быть достаточным». Это из Евангелия от Иоанна, где сказано: «Довлеет дневи злоба его». Достаточно для каждого дня его проблем, как сказали бы сейчас. «Довлеть» — это «быть довольным», достаточным. Но слово «довлеть» похоже на «давить». И аналогия здесь победила логику. И сейчас «довлеть» уже почти вошло в словари в качестве слова, которое обозначает «оказывать давление, влиять, тяготить». Или, допустим, современное понимание слова «будировать» — это чистое недоразумение. «Будировать» от французского «bouder» — «дуться». Но это слово похоже на «будить» — в итоге это «будить» и возобладало. И сейчас «будировать вопрос» — это значит «кому-то там не давать засыпать, дергать». Но на самом деле это значит совсем другое. И это обычный, нормальный ход культуры, тут ничего не сделаешь.
— Об одной из пьес журналисты пишут: «Политическая сатира с элементами свингерства». Я когда прочитал, удивился. У меня какой-то когнитивный диссонанс возник, потому что мне казалось, что вы о политике не пишете.
— Я вообще аполитичный человек.
— Вот. В то же время свингерство вообще ассоциируется со скандальными историями. В итоге – о чем там пьеса? Это действительно политическая сатира с элементами свингерства? Как получилось, что ее так интерпретировали?
— Наверное, это говорят люди, привычные к свингерству. Им всюду кажется, что оно присутствует. На самом деле «Микрополь» — это не политическая сатира. Общечеловеческая, а не политическая. Обман супругов, адюльтер — все это, к сожалению, существует. И это в пьесе противопоставлено настоящей любви. Но эта настоящая любовь оказывается вымышленной. Там есть такая Ариадна, которая переписывается с вымышленным, судя по всему, возлюбленным. Но эта любовь настолько чиста и настолько высока, что две пары главных героев, которые изменяют друг другу, начинают ей завидовать. Хотя они знают, что это вымысел. То есть это тот идеал, к которому очень трудно приблизиться. А счастье есть, хотя бы в виде идеала, если не в реальном исполнении.
— А Ариадна — это отсылка к древнегреческому мифу?
— До некоторой степени да. Там это обыгрывается.
— В книге есть и две старых пьесы. Поскольку они были написаны некоторое время назад, не было желания как-то их изменить, подредактировать?
— Я подредактировал.
— Почему?
— Потому что пьеса «Музей» писалась 20 лет назад. И она просто уже устарела, как в таких случаях говорят, морально. Меня интересовала властная фигура Сталина. И эту пьесу я написал еще в конце 90-х. Пьеса о его противоборстве с Кировым — человеком без особой воли, без особых талантов. И суть вот в чем: Сталин узнал, что Кирову хотят предложить в ЦК место генерального секретаря — при том, что секретарем был сам Сталин. И тогда он Кирову говорит: «Мы создадим твой музей, но для этого ты должен умереть, потому что не бывает музеев живых людей». И вот идет столкновение двух воль: сильной воли Сталина и слабой воли Кирова. И кончается все тем — я не буду вдаваться в детали, — что Киров сам поддерживает идею Сталина. Настолько сильна воля вождя, что, как в сценке с питоном и кроликом, кролик сам прыгает в пасть к питону.
— Я вспомнил: у Искандера как раз есть о кроликах и удавах.
— Да, это замечательная вещь.
— Это как раз аллюзия на Сталина и те времена, как я читал.
— Да. Я был с Искандером знаком. У него есть замечательные «Пиры Валтасара», где он встречу со Сталиным описывает. Это просто великолепная вещь. Просто великолепная! Мы с ним как-то весь вечер провели, сидели за одним столом на 90-летнем юбилее Дмитрия Сергеевича Лихачева. Часов 5 мы сидели, беседовали, пили водку за здоровье Дмитрия Сергеевича. Я говорю: «Ну что, Фазиль Абдулович, выпьем?!» А он уже в какой-то момент перешел на немецкий и говорит: «Abgemacht!» («Договорились!») У него был хороший тост. Он сказал: «Я все думал: почему Дмитрий Сергеевич живет так долго? А я себе отвечаю так, что Дмитрий Сергеевич поставил своей задачей пережить советскую власть. Он ее пережил. Ну, а теперь можно просто пожить».
Водолазкин Евгений Германович
Водолазкин Евгений Германович
Водолазкин Евгений Германович
— А вы спорили с Искандером о Сталине? Сегодня для меня, как для молодого человека, представляются два лагеря: одни говорят — злодей, вторые — герой. Я, может, немного утрирую, но вот они, два противоборствующих лагеря. Вот настолько его фигура раскалывает общество.
— Мы с Искандером были абсолютно одного мнения по поводу Сталина, считали его злодеем. Есть люди, которые говорят: «Да он поднял страну с колен! Войну бы без него не выиграли! Он был тем, кем нужно во время войны!» Но это, знаете, все равно, что кто-то бы мне сказал: «Вот хороший человек, но только в свободное время людей ест. Вот такой у него недостаток». Но это же невозможно. Просто я знаю тысячи случаев поломанных судеб, загубленных судеб, несостоявшихся династий. Потому что, когда расстреливают молодого человека, это значит, что убивают его род. Это страшная вещь.
— Почему тогда в 90-х, когда писали «Музей», вообще решили обратиться к этой истории Сталина и Кирова?
— Потому что тогда я чисто случайно оказался в Музее Кирова. Я оказался там потому, что помогал Дмитрию Сергеевичу Лихачеву издавать немецкий перевод его книги «Воспоминания». А в Музее Кирова – богатая фототека, и мы брали там фотографии. И на меня это скорбное место произвело огромное впечатление: я вдруг понял, что Сталин — это шекспировская фигура.
— Не трагичная, а такая, как Макбет, скорее? Такой злодей шекспировского масштаба?
— Да, вот такой он примерно и был. При этом была своя метафизика в его поведении — недаром он был семинаристом. Значит, какие-то были нити, которые выводили его к метафизике. Пусть он отрицал религию, но начинал-то он как семинарист. Это очень интересная фигура. И нельзя сказать, что он тот, кто за все отвечает. Он действительно во многом виноват, но это совсем не значит, что только он. Потому что, когда он пришел, к нему были готовы, был запрос в обществе. Я говорю сейчас вещи, с которыми многие могут не согласиться.
— Чтобы общество требовало расстреливать? Но нет же!
— Общество ждало диктатуры. В каком-то смысле это так. Общество двигается по своим законам, которые не имеют отношения к тем глупостям, о которых говорил Маркс: мол, бытие определяет сознание. Определяет ритм, некий маятник. Полный хаос и анархия в 1917-1918 годах, абсолютная диктатура в середине 1930-х. И я вот что скажу — я люблю этот пример: допустим, Сталин, вот какой он есть, приехал бы, допустим, в Швейцарию и сказал бы: «Привет, я буду вашим диктатором». Они бы просто не поняли юмора. А на самом деле он туда и не пошел бы, потому что знал бы, что там это обречено – нет запроса. А у нас по разным причинам, метафизическим и историческим, такой запрос на диктатуру был. Не у всех, конечно, но достаточно, чтобы часть общества была заряжена этим, и тогда начинается процесс, цепная реакция — и происходит атомный взрыв.
— Давайте теперь точно перейдем к литературе. Кто ваш цензор? Кому вы показываете свою книгу? Кто первый видит вашу книгу? Супруга?
— Да, моя жена первая читает мои вещи: и пьесы, и романы. Сейчас даже не читает, а пишет, потому что тот роман, который я только что сдал в издательство, я просто продиктовал ей. Я до этого не диктовал, а сейчас вот — роман почти полностью.
— А почему?
— Я почувствовал, что так легче. Я достаточно профессионален и опытен, чтобы конвертировать мысль в слова, когда кто-то рядом с тобой в одной упряжке. Вот из разности ваших потенциалов создается некое напряжение — и лампочка загорается. Это концентрирует лучше, когда кому-то диктуешь. Кроме того, моя жена просто очень умный человек. Как меня спросил один кореец: «Правда говорят, что твоя жена умнее, чем ты?» Я говорю: «Конечно, правда!» И она сразу поправляет меня. Это диалог. Она говорит: «Вот здесь ты учишь. Это будет раздражать. Убери лучше. Никому не нужны твои нравоучения. Обойдись без этого». Или: «А здесь шутка, которая пограничная, ее не стоит». Кроме того, это получается быстрее.
— А о чем новая книга, если не секрет?
— Не секрет. Это история вымышленного острова. Частично там есть некоторые намеки на русскую историю.
— Остров необитаемый?
— Обитаемый. Государство на острове. В его историю вошли события истории Западной Европы, восточных славян. То есть это такая модель истории как таковой. Не история России, а история как таковая. Это сальто-мортале с моей стороны. Но мне кажется, что я в целом сказал то, что хотел сказать.
— По вашим книгам уже есть спектакли: «Соловьев и Ларионов», «Близкие друзья», «Лавра» перенесли на сцену. Как вы относитесь к театральным постановкам?
— Очень хорошо. Мне везло с постановками. Замечательную постановку сделал талантливейший режиссер Айдар Заббаров в «Современнике». Прекрасно! Он вместе с Шамилем Хаматовым, который там играет главную роль, поставил «Соловьева и Ларионова». Великолепный спектакль «Лавр». Он был поставлен в Театре на Литейном в Петербурге. Борис Павлович — великолепный режиссер. Прекрасные «Близкие друзья» были поставлены в двух театрах: в Калуге и в ТЮЗе в Питере.
— И будет еще экранизация «Авиатора». С нетерпением ждем!
— Да, и я ее жду с нетерпением, но как-то ни слуху ни духу. Они купили у меня права на «Авиатора», но пока... Впрочем, там сидят совершенно профессиональные люди, и я надеюсь на то, что...
— ...в конечном счете они все завершат. Вот «Лавр» вошел в десятку лучших книг о Боге по версии The Guardian — очень престижное издание. Из наших книг там еще есть «Братья Карамазовы» Достоевского. Можно ли сказать, что ваши книги отчасти похожи? Ваша книга о Боге? Потому что мнения читателей разделились. Я специально стал спрашивать, и все говорят: «Нет, не о Боге». Почему англичане подумали, что она о Боге? Она о Боге?
— В конечном счете — о Боге, об отношениях человека с Богом. Просто эти отношения у Лавра осуществляются через его погибшую возлюбленную. Когда она становится сущностью метафизической, как бы появляется та лестница, по которой он восходит к Богу. Любовь к ней, когда она уже оказывается не здесь, эта любовь трансформируется в его любовь к Богу. Поэтому, я думаю, это все-таки о Боге книга.
Водолазкин Евгений Германович
Водолазкин Евгений Германович
— А схожа она с «Братьями Карамазовыми» Достоевского? Видите, англичане говорят, что и то, и то о Боге.
— Ну, о Боге можно по-разному говорить. Знаете определение богословия? По-моему, оно принадлежит Фоме Аквинскому: «Богословие — это то, что говорит о Боге или о том, что имеет отношение к Богу». То есть, значит, обо всем. По большому счету, любой разговор — это разговор о Боге. По крайней мере, тех людей, которые верят в Его существование. А те, кто не верит в его существование, просто слово «Бог» заменяют словом «природа», чем-то еще. Когда-то Честертон замечательно сказал: «Отчего это наших ученых так удивляет, что Бог создал все из ничего? Наверное, им было бы легче, считать, что все возникло из ничего в результате собственных усилий».
— Возможно. У меня вопрос, связанный тоже отчасти с Богом. Наша жизнь определяется свободой выбора или судьбой? Мне кажется, что вопрос вот именно к вам.
— Вот в этом романе я и пытаюсь на него ответить.
— В этом — это в каком? В «Лавре» или новом?
— В новом, «Оправдание Острова». Я думаю так: в основе всего лежит свобода выбора. Почему? Человек — творение Божье. Бог имеет абсолютную свободу, абсолютную волю. Когда человеку даруется жизнь, то вместе с ней ему дается и свобода выбора как качество Божье. Но свобода выбора ограничена. Нет, не тем, что Бог не дает чего-то делать. Она ограничена такими же людьми, как мы. Если взять общество, то в нем столько воль, столько стремлений, столько векторов, что люди сами друг другу мешают. И не надо вмешивать Бога и говорить, что Он помешал что-либо сделать. Люди сами мешают друг другу делать то или иное, что предусматривалось их выбором. Поэтому тут ответ может быть только диалектический: да, человек принимает решение и осуществляет свой выбор. Другое дело, что на выборе лежит проклятие бытия. Лежит проклятие других воль. Допустим, Иванов решил с понедельника бросить пить, а Петров и Сидоров пришли в понедельник и говорят: «Давай выпьем!» — и все. Но это Петров и Сидоров пришли, а Бог не мешал Иванову принимать решение о трезвости.
— И предпоследний вопрос. Какая книга была для вас самой тяжелой? Тяжелой в том смысле, что вы ее вымучили, она больше сил у вас потребовала.
— Тяжело мне не было. Все книги писались с любовью и, в общем, довольно легко.
— И последний вопрос. Возвращаясь к началу нашей беседы... 30 лет АСТ. Именинников принято поздравлять. Что бы вы могли пожелать издательству?
— Я могу пожелать того, что желают красивой женщине: «Оставайся такой, какая ты есть!»
— Потрясающий ответ. Спасибо вам большое, Евгений Германович!
на email:
Шишкин Михаил Павлович
Гиголашвили Михаил Георгиевич
Буйда Юрий Васильевич
Юзефович Леонид Абрамович
Читайте также
Политика публикации отзывов
Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:
1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт
На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте support@ast.ru.
2. Мы за вежливость
Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.
3. Ваш отзыв должно быть удобно читать
Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.
4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки
Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.
5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»
Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».
Дайте жалобную книгу
Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.
6. Отзыв – место для ваших впечатлений
Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте support@ast.ru.
7. Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.
В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.
8. Мы уважаем законы РФ
Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.






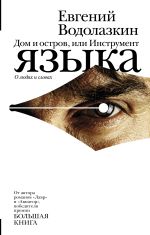

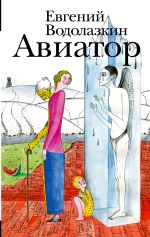









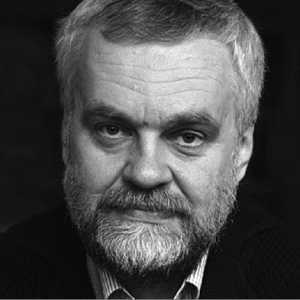


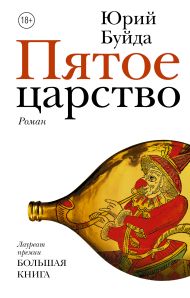






Для этого войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.