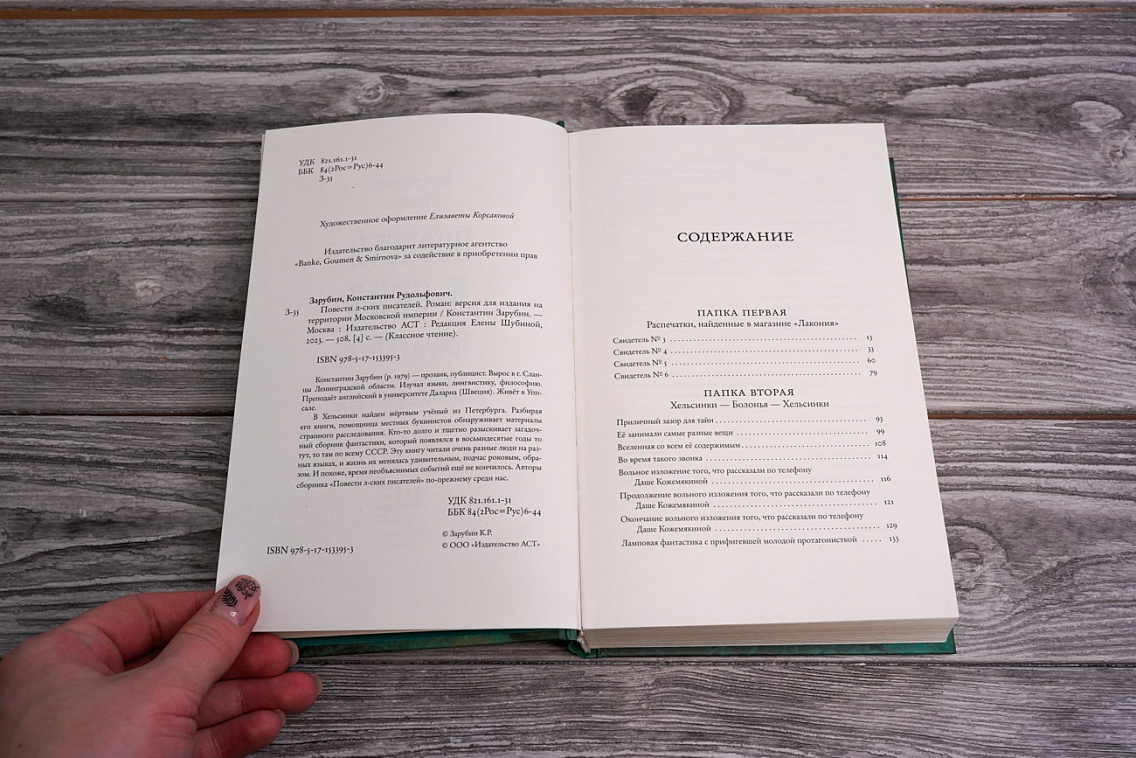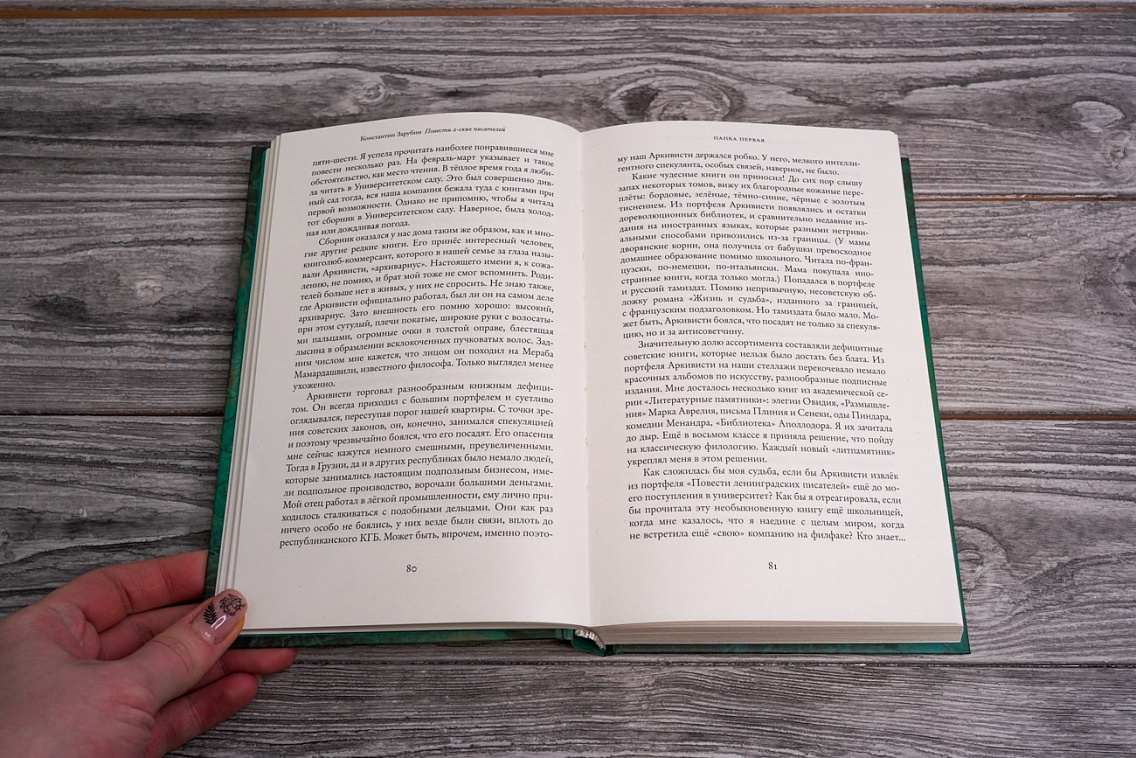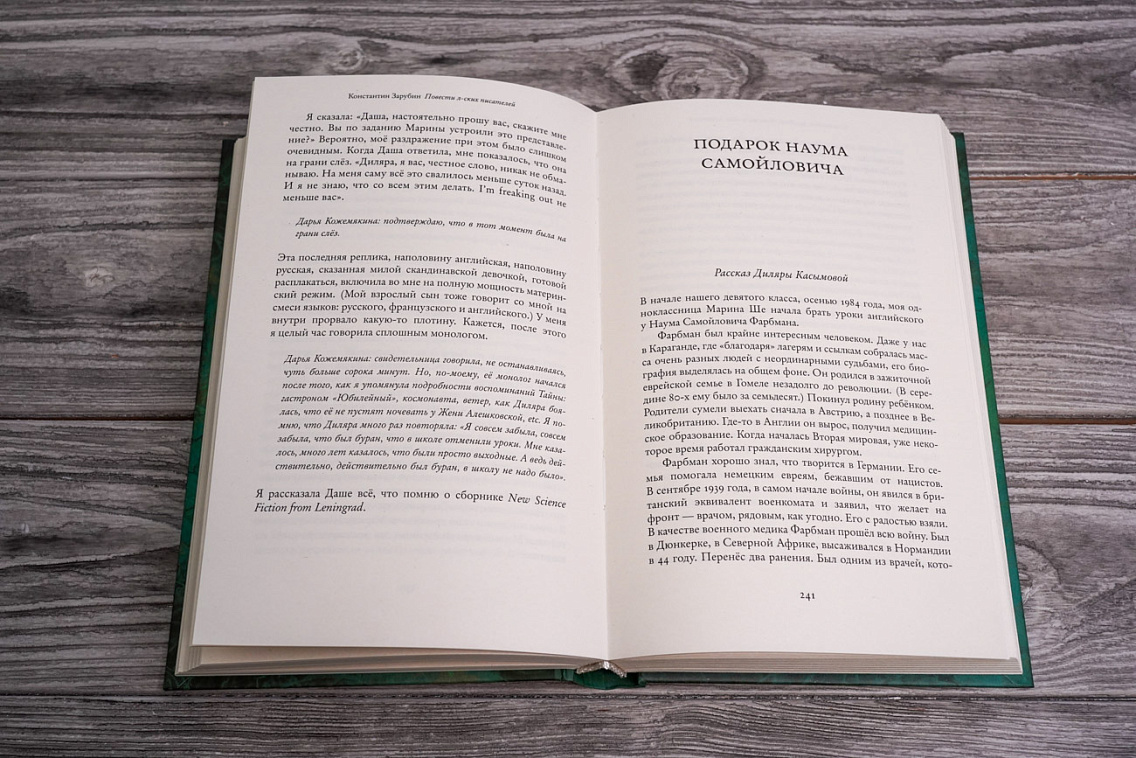Описание
Аннотация
В Хельсинки найден мёртвым учёный из Петербурга. Разбирая его книги, помощница местных букинистов обнаруживает материалы странного расследования. Кто-то долго и тщетно разыскивает загадочный сборник фантастики, который появлялся в восьмидесятые годы то тут, то там по всему СССР. Эту книгу читали очень разные люди на разных языках, и жизнь их менялась удивительным, подчас роковым, образом. И, похоже, время необъяснимых событий ещё не кончилось. Авторы сборника «Повести л-ских писателей» по-прежнему среди нас.
«Роман Константина Зарубина воскрешает веру в то, что книги бывают волшебными. И ещё говорит о том, что постсоветская ностальгия может быть безжалостно честной. Без самообмана о потерянном рае. И эта книга о будущем тоже. Она дарит робкую надежду тем, кто отчаялся в поисках смысла жизни на Земле».Юлия Гумен
Пять причин прочитать
- Роман-расследование. В центре книги — поиски сборника фантастики, написанной разными авторами на разных языках, но связанной одним таинственным издателем.
- Многоголосая, нестандартно рассказанная история о фантастическом артефакте, влияющем на жизнь каждого, кто с ним сталкивается.
- Роман-прощание и роман-признание. Он прощается с печатной книгой. Он признается ей в любви и признает ее огромную роль в истории человеческой цивилизации.
- Это не только захватывающая история, но и увлекательная интеллектуальная игра. Роман подмигивает читателю. Узнавание многочисленных аллюзий приносит отдельную радость.
- Это книга о хороших людях. В его героинях и героях нет ничего героического, они полны тревог и сомнений, но, чем дальше, тем больше хочется отыскать их в соцсетях и зафрендить, а еще лучше — подружиться с ними в реале и на всю жизнь.
Цитаты
«Короче говоря, реализм — это не норма жизни. Это новомодный вывих в истории мировой литературы».
«Вы догадываетесь, наверное, почему ЗЗЗ взяла меня за живое. Эта повесть была про меня. То, что мама зимой рассказала о родителях отца, и неизбежные скандалы, которые прогремели вслед за этим у нас дома, и, самое главное, занятия с Сашей, разговоры с ней — во мне же от этого всего тоже образовалась пробоина, из которой вылез другой я. Это был более ранний я, существовавший как раз лет до девяти-десяти, до бокса и кружка юных гопников на массиве. Оказалось, что он не исчез, он все эти годы параллельно жил своей подпольной жизнью, а теперь вышел из подполья и погнал жлоба в шею».
«А в то время все же всё правильно понимали. Не надо никому было разжёвывать».
«Фантастику же читали взахлёб, любую, будь она хоть литовская, хоть монгольская. А книги, которые читали, в магазинах просто так не продавались. У меня сын бредил тогда космосом, пришельцами, так что для меня дефицит фантастики был не менее насущной проблемой, чем дефицит колбасы. Наохотилась я за Абрамовыми, за Снеговым, за Ефремовым, за какими-то переводными антологиями. Любые новые издания фантастики пропадали мгновенно. По блату расходились, по подписке. Что-то, конечно, доходило и до библиотек. Там уже действовал скромный блат, так сказать, второго уровня: кто в фаворе у библиотекаря, тот первый знает, что пришли новые Стругацкие».
«У Лиды не укладывалось в голове, как эти повести пропустили в печать на русском. По-литовски их с грехом пополам ещё можно было представить. На прибалтийских языках, бывало, удавалось довольно несоветские вещи протащить. У прибалтов послабей была и цензура, и, главное, самоцензура. Но чтоб по-русски такое! В Ленинграде! Во-первых, непечатными были сюжеты. Все повести, насколько я поняла, описывали будущее, далёкое и не очень далёкое. Советской власти в этом будущем то совсем не было ни в каком виде, то её было слишком много и вела она себя слишком правдоподобно — как настоящая советская власть. Во-вторых, непечатным был общий тон прозы. Это я сама хорошо запомнила по тем повестям, что успела прочитать у Лиды в гостях. Настроение они оставляли не то чтобы мрачное или упадническое... Скорее, невыразимо печальное. Описать невероятно трудно... Представьте, что началось что-то непоправимое, какая-то ползучая, отложенная трагедия. И только вам известно, что ход событий изменить уже невозможно. И вам ясно, что никто в этой трагедии особенно не виноват, кроме законов мироздания».
«Мирейя была знакома с Дарьей Кожемякиной ровно неделю, но успела заметить, что скороговоркой та говорит всегда, на всех языках. Дарья тараторила по-английски, комментируя посылки, которые они собирали покупателям из интернета. Дарья тараторила по-фински с офлайновыми посетителями. Дарья тараторила, когда звонила маме, — на языке, который сначала показался Мирейе просто шершавым, бесформенным и мягким, как ношеная кофта из грубой шерсти, а потом, когда выяснилось, что это русский, он вдруг зазвучал музыкально, загадочно и (сколько бы Мирейя ни краснела, отгоняя это наваждение) чуть-чуть угрожающе».
«...она, наверно, и не хотела на самом деле ни в какой параллельный мир с эльфами. Она, везучая финская девочка, слишком любила этот мир, где Хямеэнлинна и Кингисепп, и мечтала, чтобы волшебным оказался именно он, заодно с мамой и Марьей, и с бабушкой Ирой, и с бабушкой Анной Карениной, и с новостями общественной телерадиокомпании Yle, и с финской статистикой, и с педагогическим образованием, и с контейнерами для раздельного сбора мусора на Линнанкоскенкату».
«Если вы, дорогая читательница и статистически менее вероятный дорогой читатель, подобно мне, всё детство глотали книжки об огромном мире, никуда не выезжая из родного советского райцентра, то совсем даже не важно, через какой вход вы попадёте в Ambasciatori. Смело заходите и с Виа дельи Орефичи, и с Виа Драпперие. Наплыв эмоций схлопочете в любом случае».
«Скажем прямо, по-чеховски: Закиров принадлежал к людям, которые в своём взгляде на мир совмещают циничный фатализм с неизлечимым оптимизмом, не замечая в том особого противоречия. Закирову этот фокус давался легко. Весь цинизм-фатализм у него в голове относился к исторической плоскости бытия, составленной из бутафории вроде „народов“, „стран“ и „религий“ и населённой суетливыми людьми, которые верили в подобную бутафорию. (Суть этой плоскости бытия отец Закирова называл „камланием вокруг пластилиновых идолищ“. Лет, кажется, в двенадцать — они тогда уже точно переехали из Уфы в Ленинград — Закиров посмотрел наконец в словаре Ожегова, что такое „камлание“ и кто такие „идолища“, и понял смысл отцовских слов.)»
«Я только знаю, что прежняя история кончается. Она везде кончается. По всей нашей планете будет по-другому. Будет такое время, когда всё, что по-настоящему важно, получается. Но только то, что по-настоящему важно. Это будет очень скоро. Есть некоторые из пьющих здесь, которые не вкусят смерти. Так ведь сказано, Алка? Даю всем честное слово».
«Диляра говорила об этом так, будто у девушки получалось; будто её воспоминания о ПЛП и правда наполняли всё на свете каким-то офигенным смыслом. Но почему тогда не получалось у неё, Даши? Она же не просто читала л-ских писателей где-то там сколько-то там лет назад, пускай даже на языке, которого не знала. Она реально-буквально жила в творчестве л-ских писателей».
Для этого войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.
Дайте жалобную книгу
Свидетель № 3
Свидетель № 4
Свидетель № 5
Свидетель № 6
ПАПКА ВТОРАЯ. Хельсинки — Болонья — Хельсинки
Приличный зазор для тайн
Её занимали самые разные вещи
Вселенная со всем её содержимым
Во время такого звонка
Вольное изложение того, что рассказали по телефону Даше Кожемякиной
Продолжение вольного изложения того, что рассказали по телефону Даше Кожемякиной
Окончание вольного изложения того, что рассказали по телефону Даше Кожемякиной
Ламповая фантастика с прифигевшей молодой протагонисткой
ПАПКА ТРЕТЬЯ. К истории мёртвого русского
Творчество Вити Орлова
Визит Натальи Рябиковой
Удел полуслепого бегемота
Попутчики Андрея Закирова
Книга Виты Яновской
Родина Виты Яновской
Остатки латышской повести
ПАПКА ЧЕТВЁРТАЯ. Хельсинки — Казахстан — Хельсинки
Случилось что-то дикое
Тайна сидела у себя в кабинете
Литр сметаны, молоко и кефир
У нас уже много информации
Я не думала, что будет так ужасно
Папа её обманул
Мозаика с летящим космонавтом
ПАПКА ПЯТАЯ. Монреаль — Караганда — Алматы — Восточно-Сибирское море
Свидетельница № 7
Подарок Наума Самойловича
Легенда всесоюзного значения
Можно только уйти
Наступает новое время
Остров Беннета
Примечание курсивом
ПАПКА ШЕСТАЯ. Хельсинки — где-то — Хельсинки
Vitun noosfääri
Да проходите же вы
Съезд кунсткамерных уродцев
Она любила этот мир и кролика Олифанта
В Парке писателей
Листки из журнала «Уральский следопыт»
Это я. Совершенно точно
Наводки бывают разные
ПАПКА СЕДЬМАЯ. Записки фан-клуба л-ских писателей
Дневник Иммы Боццини
Рукопись Лукреции Д’Агостини
Отчёт Тайны Лайтинен
Записка Лиисы Гревс
Кассеты Виты Яновской
ПАПКА ВОСЬМАЯ. Август Даши Кожемякиной
Отсрочка до двадцать первого
Какая, for fuck’s sake, Россия?
Меня тоже сделали
Будущего почти не осталось
После вечера откровений
Сёстры Стругацкие
Встреча с Лоттой Йокинен, сотрудницей полиции безопасности Финляндии
Двадцатого августа
Даже monsieur Verne
Жер планетасы
День появленья на свет
Примечания
Дайте жалобную книгу
Вагнер Яна
Лужбина Анна Андреевна
Верзун Яна Александровна
Сальников Алексей Борисович
Володина Ася
Служитель Григорий Михайлович
Замировская Татьяна Михайловна
Понизовский Антон Владимирович
Буйда Юрий Васильевич
Данилов Дмитрий Алексеевич
Москвина Марина Львовна
Левантовский Михаил Сергеевич
Зарубин Константин













![Любимые горячие уличные напитки [Бедретдинов Тимур]](https://cdn.ast.ru/v2/ASE000000000893189/COVER/cover1__w150.jpg)