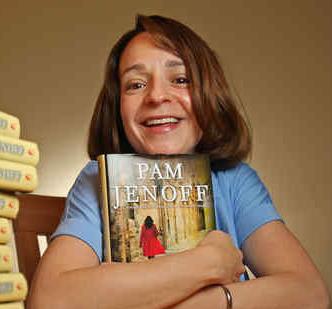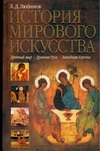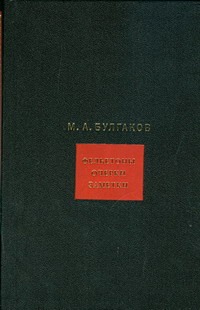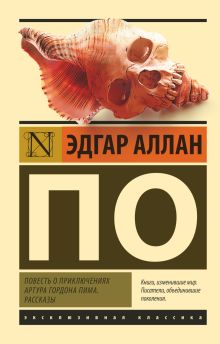Прочти первым: «Неровный край ночи» Оливии Хоукер
Для поклонников исторического романа в Издательстве АСТ выходит эмоционально захватывающая, красиво написанная книга о необычайной надежде одного человека, его искуплении и поисках света в самые мрачные времена Второй мировой войны.
Это переводной роман Оливии Хоукер, в одночасье ставший бестселлером по версии The Washington Post. Второй роман Оливии — One for the Blackbird, One for the Crow — также стал хитом в Америке. Осеню 2021 года вышла еще одна ее книга — The Rise of Light, которую литературные критики уже назвали «мощным произведением».
Сама писательница, популярность к которой пришла совсем недавно, скромно живет с мужем и непослушными кошками на суровых островах Сан‑Хуан, недалеко от Сиэтла, у самой границы с Канадой. Исторические произведения Оливии Хоукер характеризуются богатым, захватывающим сюжетом и сложными, совсем неоднозначными персонажами.
Действие в «Неровном крае ночи» происходит в Германии в 1942 году. Францисканский монах Антон Старцманн ищет искупление и свое новое место в жизни, после того как он не смог уберечь своих учеников от нацистов, захвативших его родной городок во Франции. Антон переезжает в маленькую немецкую деревушку, по расчету женится на местной вдове с тремя детьми и пытается жить исключительно бытовыми проблемами своего небольшого семейного мира. Но он не может ужиться ни с собой, ни с нацистским режимом и присоединяется к подпольной сети сопротивляющихся, замышляющих покушение на Гитлера.
Эта необычная история, основанная на реальных событиях, — один из немногих современных романов о Второй мировой войне, который выделяется из общего фона и может надолго запомниться.
Хоукер Оливия
Он стоит во дворе перед Сент‑Йозефсхаймом. Воспоминания стекаются, поднимаются приливом, который грозит скрыть его с головой — утопить его. И все же он не хочет отпускать воспоминания, вопреки опасности. Как будто если он даст волю своей боли, он сможет что‑то понять. Как будто если он по своему почину погрузится в черную воду, позволяя потоку нести его, он сумеет расшифровать свое прошлое. Инструменты так на него повлияли. Он прикоснулся к ним и вспомнил. Он впитал то, что в них заключено, как яд через кожу. Если он поступит так, как хочет Элизабет, и избавится от этих предметов, может быть, воспоминания больше не будут преследовать его. Но забыть — это тоже будет боль, и еще больший позор, чем тот, что уже покрывает его.
Здесь, посреди широкого поля, освобожденного от урожая, вдали от фермы, он так одинок, как это только возможно в маленьком городке. Теперь, когда он один, для боли освобождается еще место. Он снова поднимает корнет. Он играет долгую, низкую, меланхоличную мелодию и молится, чтобы звуки унесли прочь воспоминания. Но воспоминания сжимают его в своих острых, как ножи, тисках, с еще большей силой, чем до того.
Автобус. Дети, строящиеся в очередь, улыбающиеся и смеющиеся — большая часть из них — уверенные, что их ждет большое приключение. Несколько — лишь несколько — были достаточно сообразительны и понимали, что что‑то не так. Они оглядывались по сторонам с потерянным видом, заламывали руки или хватали себя за запястья, чтобы унять страх. Для некоторых из них это срабатывало; ничто другое не могло облегчить их тревогу, кроме как цепляться за свои мягкие маленькие ручки в успокаивающем ритме и причитать без слов, хрупкие птенчики. Один из эсэсовцев, в своей жесткой черной униформе, смотрел некоторое время на девочку, которая махала руками в воздухе — это была Рилли Эннс, одна из ее крысиных косичек развязалась и распустилась. Она что‑то выкрикивала, некую нечленораздельную мольбу, на высокой ноте, переполненную страхом. Сказать она едва ли что‑то могла, она способна была только кричать. Но у кого в такое время нашлись бы слова?
Лицо мужчины потемнело от отвращения. Он пробурчал: «Действительно, жизнь, не достойная жизни».
Мы должны были это предвидеть. Мы знали; мы слышали. С 1939‑ом Гитлер рыскал по землям, которые уже держал в своих руках, разыскивая болезненных, надломленных, кротких и невинных. Он начал с того, что выскреб заведения для взрослых, где медсестры заботились о тех, кто не мог позаботиться о себе сам — тех, которые оставались детьми всю свою жизнь. В те дни практиковались принудительные стерилизации, чтобы любой, кто был признан недостаточно здоровым, не мог размножаться и засорять пул совершенного населения; Германия Гитлера должна была сформироваться за счет несовершенства нашего единства, если бы мы позволили. И мы позволили. Мы сидели, сложа руки, согласные или не верящие своим глазам или чувствующие облегчение от того, что это случилось с кем‑то другим, а не с нами — не с теми, кого мы любим.
Началось со стерилизаций, за которыми последовало черное крещендо, срывающееся на крик. Все стало еще хуже. Мы читали истории в газетах, и буклеты переходили из рук в руки с подачи Белой Розы. Опекуны и няни открывали двери на стук, и на пороге оказывались эсэсовцы в униформе, пришедшие забрать беспомощных подопечных. Перераспределение. «Мы поместим их в учреждения, где уход за ними будет лучше, — вот, что говорили эсэсовцы. — Мы снимем это бремя с вас; вам больше нет необходимости утруждаться». Но все знают, все видят (даже во всеобщей слепоте), что так называемые «жизни, не достойные жизни» распределяются только по могилам.
Мы знали, мы слышали — но каким‑то образом мы думали, что с нами этого ни за что не случится. Или, возможно, мы осознанно закрывали на все глаза, предпочитая неведение и фантазии ужасу реальности. Но однажды ты выглядываешь в окно классной комнаты, чтобы увидеть, как подъезжает серый автобус, на его стеклах отпечатки рук призраков, ты видишь грузовики, помеченные свастикой, и людей с ружьями и мертвыми глазами.
Рилли Эннс посмотрела снизу‑вверх на брата Назария. Слов она найти не могла, но она была не настолько проста, чтобы ничего не видеть и не понимать. Ее щеки раскраснелись от страха. Ее выразительный рот открылся, и она издала стон, потом снова и снова.
Антон, в его сером монашеском облачении, бросился мимо злобно бормотавшего эсэсовца к другому, чье лицо на миг выдало ужасную тоску и отчаяние.
— Пожалуйста, — обратился он к человеку, который позволил себе чувствовать. — Пожалуйста, не делайте этого.
С порога школы кто‑то рявкнул:
— Пакуйте их в автобус. Всех детей, всех до единого. Проверьте в здании кто‑нибудь. Обыщите подвал. Убедитесь, что никто не прячется. Убедитесь, что никто из этих серых католических крыс не укрыл кого‑нибудь.
Мужчина с тоскующим лицом держал карабин наперевес. Но он не мог смотреть Антону в глаза — Антону, монаху, вооруженному лишь четками.
— Это не мой выбор, — сказал он тихо, голосом хриплым от стыда. — Это не мое решение.
— Но вы знаете, что это неправильно. Это невинные дети. Родители доверили их нашей заботе. Кто позаботится об этих несчастных, если не мы?
— Их всего лишь отсылают в другое учреждение, — произнес мужчина, и больше он ничего не мог вымолвить. Он дрожал.
— Вы знаете, что это неправда. Мы все знаем.
— Отойдите в сторону, брат. Мы все должны делать то, что нам велят.
Антон покачал головой. Идя, как в невесомости, покачиваясь, едва веря в то, что делает, он встал между эсэсовцами и детьми.
— Я не могу. Я просто не могу... позволить вам. Вы знаете, что это неправильно. Вы знаете, что это грех. Вы знаете, что однажды ответите за это перед Богом.
В приступе ярости, неожиданной и резкой, мужчина приставил дуло к груди Антона. Кто‑то закричал в панике — один из монахов: «Брат Назарий!»
— Встанешь на моем пути еще раз, и я спущу курок, — но произнося эти слова, мужчина задыхался. Слезы стояли в его глазах.
— Что они с тобой сделали? — прошептал Антон. — Как они заставили тебя согласиться на это?
Мужчина покачал головой, боль была слишком велика, чтобы говорить, но ружье все еще упиралось в грудь Антона. Он прерывисто дышал, полувсхлипывая, но тихо, так тихо, что только Антон мог его слышать:
— У меня жена. Две дочки, девяти и двенадцати лет. Они сказали мне... сказали...
Большего мужчина произнести не мог, но кто угодно, у кого есть сердце, и так понял бы. Они сказали ему, что сделают, если он откажется. Жену будут пытать. Дочек изнасилует десяток мужчин. Это нож, который они приставили к его горлу. Это пропасть, к которой они нас тащат. Во имя того, чтобы сделать Германию великой, мы заставили наших мужчин выбирать между жизнями невинных созданий и их собственных жен и детей. Мы срезали плоть с жен, пока мужья смотрели. Мы клеймили их железом, обезображивали их избиениями, пока они не начинали молить о пуле, чтобы прекратить страдания. Мы бросали маленьких девочек толпе насильников. Deutchland uber Alles.
Боль этого мужчина была больше, чем он мог вынести, и брат Назарий отступил. Нет — он сделал это по другой причине, но это то, что он будет твердить себе потом. Каждую ночь, когда сожаления сокрушают его и не дают спать, он говорит себе: «Я позволил тем людям забрать моих детей, потому что это действие было для них не проще, чем для меня. Потому что люди в черной униформе тоже страдают, их преследует то, что их заставляют творить».
Но карабин в дрожащих руках того мужчины, а затем миг, когда дуло отодвинулось от груди Антона, — тогда облегчение захлестнуло его. Вот почему он позволил им забрать детей: чтобы спасти свою собственную жизнь. Какое искупление он мог бы когда‑либо найти для такого греха?
— Мне жаль, — сказал Антон мужчине в черном. — Мне жаль. То, что они сделали с тобой... да смилуется над тобой Господь, брат мой.
на email:
Голдринг Сьюзан
Эпштейн Фрэнси Рабинек
Дрюар Рут
Робсон Дженнифер
Вы смотрели
Политика публикации отзывов
Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:
1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт
На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте support@ast.ru.
2. Мы за вежливость
Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.
3. Ваш отзыв должно быть удобно читать
Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.
4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки
Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.
5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»
Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».
Дайте жалобную книгу
Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.
6. Отзыв – место для ваших впечатлений
Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте support@ast.ru.
7. Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.
В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.
8. Мы уважаем законы РФ
Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.