
Прочти первым: «2666» Роберто Боланьо
Главный роман от самого выдающегося голоса латиноамериканской литературы своего поколения, лучшая книга года по версии журналов Time, New York Magazine и Financial Times, лауреат национальной книжной премии критиков США.
Легендарный роман о вымышленном городе Санта‑Тереза на мексикано‑американской границе, где сталкиваются заключенные и академики, американский журналист, сходящий с ума философ и таинственный писатель‑отшельник.
Но этот город скрывает страшную тайну. Здесь убивают женщин, и количество погибших растет с каждым днем. Власти ничего не могут поделать, Санта‑Тереза охвачена тьмой, и чем дальше, тем более параноидальной становится атмосфера. И корни этой эпидемии жестокости уходят в Европу, в Америку и даже на поля битв Второй Мировой войны.
Пять частей, пять жанров, десятки действующих лиц, масштабная география событий — все это «2666», загадочная постмодернистская головоломка, один из главных романов начала XXI века.
Боланьо Роберто
В первый раз Жан‑Клод Пеллетье прочитал книгу Бенно фон Арчимбольди в 1980 году на Рождество. Жил он тогда в Париже, учился в университете, занимался немецкой литературой, и было ему девятнадцать лет. Прочитал он собственно «Д’Арсонваль». Молодой Пеллетье и знать не знал, что роман — часть трилогии, в которую также входили «Сад» (английская часть), «Кожаная маска» (часть польская), ну и «Д’Арсонваль» — часть французская, как понятно из названия. Подобное невежество, прискорбный пробел в знаниях и библиографическую неаккуратность лишь отчасти извиняет юный возраст читателя.
Тем не менее на впечатлении, которое произвел роман — а юноша был ослеплен, восхищен и поражен книгой, — все вышеперечисленное никак не сказалось.
С того самого дня (точнее, предрассветного ночного часа, когда он закончил читать первую книгу Арчимбольди) Пеллетье превратился в страстного его поклонника и с невероятным воодушевлением принялся за поиски других книг автора. Пришлось ему, надо сказать, нелегко. Даже в Париже восьмидесятых годов двадцатого века достать книгу Бенно фон Арчимбольди оказалось крайне непростой задачей.
В библиотеке при кафедре немецкой литературы он искал, но про Арчимбольди ничего не нашел. Преподаватели ничего не слышали о таком авторе. Один из них, правда, сказал, что имя ему, похоже, знакомо. В ярости (и в ужасе) Пеллетье уже через десять минут понял, что преподавателю действительно знакома эта фамилия, но не писателя, а итальянского художника, относительно которого сам Пеллетье пребывал в неведении и, надо сказать, совершенно по этому поводу не огорчался.
Он написал в гамбургское издательство, выпустившее в свет «Д’Арсонваль», но не получил никакого ответа. Обошел те немногие лавки Парижа, что торговали немецкими книгами. Фамилия Арчимбольди отыскалась в словаре немецкой литературы и в бельгийском журнале, посвященном — в шутку или всерьез, кто знает, — литературе прусской.
В 1981 году, путешествуя в компании трех друзей с факультета по Байерну, в крохотном книжном магазине в Мюнхене, на Форальмштрассе, он обнаружил тоненькую, едва ли на сто страниц, книжку под названием «Сокровище Митци» и уже упомянутый английский роман «Сад».
Обе новые книги он прочитал и еще более укрепился в своем мнении относительно Арчимбольди. В 1983 году, в возрасте двадцати двух лет, он взялся за перевод «Д’Арсонваля». Его об этом никто не просил. Среди французских издательств вряд ли нашелся бы охотник публиковать какого‑то немца со странной фамилией. Пеллетье начал переводить, потому что ему нравился сам процесс. Он чувствовал себя счастливым, а кроме того, хотел представить перевод и работу о творчестве Арчимбольди как диплом и, возможно, заложить тем самым основание для грядущей диссертации.
Пеллетье закончил финальную редактуру перевода в 1984 году, и одно парижское издательство, несмотря на противоречивые отзывы рецензентов, поколебавшись, все же взяло книгу в работу. Роману Арчимбольди пророчили вялые, не более тысячи экземпляров, продажи, однако после нескольких противоречивых и ряда положительных — можно сказать, излишне хвалебных — отзывов в прессе три тысячи тиража разошлись мгновенно, и роман переиздали второй, третий и даже четвертый раз.
К тому времени Пеллетье уже прочитал все пятнадцать книг немецкого писателя, перевел еще две и был практически единодушно признан главным специалистом по творчеству Бенно фон Арчимбольди во всей старой доброй Франции.
Тогда Пеллетье припомнил день, когда впервые прочитал книгу Арчимбольди: его воображению живо представился он сам, юный нищий студент, довольствующийся комнатушкой горничной. Припомнил он и раковину, над которой умывался и чистил зубы вместе с другими пятнадцатью обитателями темной мансарды, ужасный, никогда не мытый унитаз, на который страшно было присесть, туалет, который следовало бы назвать выгребной ямой, куда приходили справить нужду те самые пятнадцать соседей по мансарде, часть из них уже отбыла в провинцию, получив соответствующий университетский диплом, или переехала в другие, более комфортабельные апартаменты в том же Париже, другие — таких насчитывалось немного, но они были — продолжали жить там же, ведя растительное существование или помирая в грязи.
Да, он припомнил себя молодым: как, довольствуясь малым, сидел над своими немецкими словарями при слабом свете лампочки — тощий, но упорный, воплощенная в плоти, костях и мускулах воля, ни грамма жира, фанатик, решивший во что бы то ни стало достичь тихой гавани, — одним словом, типичный студент в столице, но для него это все было сродни наркотику, наркотику, от которого хотелось плакать и плакалось, наркотику, что открыл в нем, как сказал один посредственный голландский поэт девятнадцатого века, шлюзы эмоций и того, что на первый взгляд казалось состраданием самому себе, но им не являлось (а чем же оно, получается, было? Яростью? наверное...), и тогда Пеллетье принялся думать, и снова возвращаться мыслями, но не к словам, а к болезненным образам; таков был его период ученичества, и после бессонной ночи, от которой, впрочем, не было никакого проку, он заставил разум сформулировать два вывода: первый — его прежняя жизнь окончена; второй — его ждет блестящая карьера, но, чтобы блеск не потускнел, придется сохранить — единственным воспоминанием о темной мансарде — непреклонность воли. Задача, впрочем, не показалась ему сложной.
Жан-Клод Пеллетье родился в 1961 году, и в 86-м уже был профессором на кафедре немецкого языкознания. Пьеро Морини родился в 1956 году, в селении близ Неаполя, и хотя ему случилось в первый раз прочитать Бенно фон Арчимбольди в 1976 году, то есть на десять лет раньше, чем Пеллетье, первый его перевод (им стал роман Bifurcaria bifurcate¹) увидел свет лишь в 1988 году. Книга, надо сказать, особого успеха не стяжала.
¹ Латинское название бурой водоросли, которой, собственно, и посвящен роман Арчимбольди.
Нужно принять во внимание, что ситуация с творчеством Арчимбольди в Италии очень отличалась от французской. На самом деле Морини со своим переводом не был первопроходцем. Более того, первый роман Арчимбольди, которому случилось попасть в руки Морини, оказался переводом «Кожаной маски», выполненным неким Колоссимо для «Эйнауди» в 1969 году. После него в Италии вышли «Реки Европы» (в 1971 году), потом, в 1973‑м, «Наследие», в 1975‑м — «Железнодорожное совершенство», а еще раньше, в 1964‑м, одно римское издательство опубликовало «Берлинские трущобы», сборник рассказов, отчасти с военной тематикой. Потому вполне можно сказать, что Арчимбольди в Италии пользовался некоторой известностью; но с другой стороны, успеха не имел — ни умеренного, ни какого‑либо еще. Он имел нулевой успех — так будет точнее. Книги его дряхлели на самых дальних и сырых полках магазинов, ложились мертвым грузом, умирали в забвении на издательских складах, пока их не пускали под нож.
Морини, естественно, не убоялся и не отступил: да, среди итальянской публики Арчимбольди не приобрел поклонников, но Морини, издав свой перевод Bifurcaria bifurcata, отдал в миланский и палермский журналы два объемных труда, посвященных Арчимбольди: в первом он рассматривал тему предназначения в «Железнодорожном совершенстве», во втором — мотивы, сопровождающие темы вины и совести в «Летее» (на первый — но только на первый! — взгляд эротический роман) и в «Битциусе» (тощий романчик чуть более ста страниц объемом, в чем‑то похожий на «Сокровище Митци» — книгу, которую Пеллетье нашел в старом букинистическом магазине в Мюнхене). Сюжет «Битциуса» завивался вокруг Альберта Битциуса, пастора в местечке Лутценфлюх, что в кантоне Берн, автора проповедей, а кроме того — писателя, издающегося под псевдонимом Иеремия Готтэльф. Оба труда увидели свет, и таковы были убедительность и красноречие, с которыми Морини представил Арчимбольди, что ему удалось преодолеть все препятствия и уже в 1991 году вышел второй перевод Пьеро Морини — роман «Святой Фома». В то время Морини уже преподавал немецкую литературу в Туринском университете, врачи диагностировали у него рассеянный склероз, а кроме того, с ним приключился приобретший громкую известность и весьма странный несчастный случай, который навеки приковал его к инвалидной коляске.
Мануэль Эспиноса пришел к Арчимбольди другим путем. Он был моложе Морини и Пеллетье и не изучал — по крайней мере два первых курса — немецкую филологию: Эспиноса по ряду причин (весьма грустных, но самая грустная — желание стать писателем) трудился на кафедре испанского языкознания. Из немецких писателей он знал (весьма скверно) троих классиков: Гельдерлина — потому что шестнадцати лет от роду решил, что его предназначение — стать поэтом, и запоем читал все сборники стихотворений, которые попадали ему в руки; Гёте — потому что на последнем курсе университета шутник‑преподаватель рекомендовал ему ознакомиться со ≪Страданиями юного Вертера≫: мол, там вы найдете родственную душу; и Шиллера, из которого читал только одну пьесу. Потом он читал много вещей современного автора, Юнгера, просто потому, что не хотел отстать от моды: мадридские писатели, которыми он восхищался и которых всей душой ненавидел, говорили исключительно об этом немце. Так что можно сказать: Эспиноса был знаком с творчеством только одного немецкого автора — Юнгера. Поначалу его сочинения казались Эспиносе невыразимо прекрасными, а поскольку бoльшую часть книг Юнгера уже перевели на испанский, Эспиноса без труда их нашел и все прочитал. Ему бы больше понравилось, если бы все оказалось не так просто. Кстати, люди, с которыми он тогда общался, не только были поклонниками Эрнста, но и переводчиками его трудов; впрочем, Эспиносу это вовсе не волновало, ибо он жаждал лавров не переводчика, но писателя.
Однако шли месяцы, годы, и время, как всегда молчаливое и жестокое, преподнесло ему неприятные сюрпризы — до того неприятные, что все прежние его убеждения грозили рассыпаться прахом. Так, к примеру, он обнаружил, что компания юнгерианцев оказалась вовсе не такой юнгерианской, как он думал прежде: выяснилось, что они, как и всякое другое собрание литераторов, весьма зависели от смены времен года: например, осенью оставались примерными юнгерианцами, а зимой вдруг преображались в барохианцев², весной — в ортегианцев³, а летом даже покидали бар, в котором собирались, и выходили на улицу читать буколические стишки в честь Камило Хосе Села; все это молодой Эспиноса, несмотря на патриотические чувства, принял бы без особых усилий — но только в случае, если бы в этих акциях чувствовался дух карнавала и веселья. Но нет, поддельные юнгерианцы относились ко всему с мрачной серьезностью, и это его совсем не устраивало.
² Поклонников творчества Пио Бароха или Каро Бароха.
³ Поклонников творчества Ортеги-и-Гассета.
Впрочем, самое страшное заключалось в другом. Эспиноса обнаружил, что коллеги по юнгерианству относятся к его пробам пера едва ли не с отвращением. И однажды, после бессонной ночи, он вдруг спросил себя: а не намекают ли эти люди, что ему пора покинуть их компанию, что он чужой, что он мешает и должен уйти и не возвращаться?
А самый скверный оборот все это приняло, когда в Мадрид приехал сам Юнгер и юнгерианцы устроили ему экскурсию в Эскориал — да, в Эскориал, кто его знает, зачем и почему этот дворец сдался наставнику,— так вот, когда Эспиноса захотел примкнуть к свите, причем в любом амплуа — он был не гордый,— в этой чести ему отказали — да так, словно бы эти симулянты от юнгерианства считали его недостойным включения в гвардию телохранителей царственного немца или даже полагали, что он, Эспиноса, способен на дурацкую мальчишескую выходку, которая бы выставила в дурном свете весь их философический кружок; впрочем, ему ничего такого не сказали — возможно, из соображений милосердия — и официальная версия была такова: ему, Эспиносе, отказано, потому что он не знает немецкого, а все остальные, кто едет в Эскориал, по‑немецки говорят.
На том и закончилась история об Эспиносе и юнгерианцах. И началась совсем другая — история об одиночестве и о дожде (или даже ливне) замыслов и предположений, зачастую противоречащих друг другу, а то и вовсе фантастических. Ночи не приносили ни отдохновения, ни удовольствия, однако в первые, самые трудные дни Эспиноса открыл для себя нечто, что помогло ему продержаться: во‑первых, он понял, что прозаиком ему не стать, а во‑вторых, он сделал вывод, что ему не занимать храбрости.
Также Эспиноса обнаружил, что он парень не только храбрый, но и злопамятный: его переполняла обида, он истекал ею как рана гноем, и без колебаний убил бы кого‑нибудь, все равно кого, лишь бы спастись от одиночества, дождей и мадридского холода — и тем не менее это свое открытие он задвинул в самый темный уголок памяти и предпочел сосредоточиться на том, что ему не быть писателем, а также на том, чтобы извлечь максимальную выгоду из своей недавно эксгумированной смелости.
Он продолжил учиться в университете, на том же отделении испанской филологии, однако параллельно записался на курс филологии немецкой. Спал не более четырех, максимум пяти часов, а остальное время посвящал учебе. Еще до окончания курса написал двадцатистраничный очерк, посвященный связи образа Вертера с музыкой, и работу эту опубликовали мадридский литературный журнал и вестник университета Геттингена. В двадцать пять он закончил оба отделения.
В 1990‑м сумел защитить докторскую по специальности «немецкая литература» —эту его работу, посвященную творчеству Бенно фон Арчимбольди, спустя год опубликовало одно барселонское издательство. К этому времени Эспиноса уже вполне освоился в мире конференций и круглых столов, посвященных проблемам немецкой литературы. По‑немецки он говорил теперь если не прекрасно, то уж вполне сносно. Так же выучил английский и французский. Как и Морини с Пеллетье, нашел хорошую работу с очень приличным окладом и снискал уважение (насколько это возможно) студентов и коллег. И никогда не переводил ни Арчимбольди, ни какого‑либо другого немецкого автора.
Помимо увлечения Арчимбольди Морини, Пеллетье и Эспиносу объединяло вот что: все трое обладали поистине железной волей. На самом деле у них было еще кое‑что общее, но об этом мы расскажем потом.
Лиз Нортон, в противоположность им, нельзя было назвать волевой женщиной: она не строила ни промежуточных, ни долгосрочных планов на будущее и не выкладывалась целиком ради достижения цели.
Выдержка, целенаправленность — это было не про нее. Когда ей было больно, окружающие это видели, а когда она была счастлива, другие заражались ее весельем. Она не могла сознательно поставить перед собой определенную задачу и равномерно распределить силы на пути к достижению цели. Впрочем, не существовало такой цели, и не сыскать было в целом мире ничего столь желанного и приятного, ради чего она отдала бы всю себя. Выражение «достичь цели» в приложении к себе казалось ей хитро устроенным силком, который расставляют только люди мелочные и жадные. Для нее выражение «достичь цели» уступало в важности слову «жить», а в некоторых случаях — слову «счастье».
Если воля направлена на то, чтобы соответствовать социальным требованиям (как предполагал Уильям Джеймс), то проще отправиться на войну, чем бросить курить. Так вот, о Лиз Нортон можно было сказать: ей проще было бросить курить, чем пойти на войну.
Однажды в университете кто‑то сказал ей это, и Лиз фраза понравилась. Впрочем, интереса к Уильяму Джеймсу она так и не проявила: как раньше не читала его книг, так и дальше не стала. Для нее чтение прямо соотносилось только с удовольствием, и лишь косвенно — со знанием, загадками и запутанными ходами словесных лабиринтов, которые так волновали сердца Морини, Эспиносы и Пеллетье.
Знакомство с Арчимбольди у нее вышло куда менее травматичным и даже можно сказать — романтическим. В 1988 году ей было двадцать, и она на три месяца уехала в Берлин. Один из немецких друзей дал Лиз почитать роман неизвестного ей автора. Какое странное имя, сказала она другу, разве может такое быть: немецкий автор, а фамилия итальянская, и тем не менее «фон» перед фамилией стоит, он, получается, дворянин? Друг не знал, что ответить. Наверное, это псевдоним, сказал он. И добавил, словно этого было мало, что в немецком не слишком‑то много мужских имен собственных, которые заканчиваются на гласную. Вот женских таких — сколько угодно. А вот среди мужских почитай что и нет. Роман назывался «Слепая» и ей понравился, но не до такой степени, чтобы бросить все и бежать в книжный скупать все произведения Бенно фон Арчимбольди.
Она вернулась в Англию, и вот, пять месяцев спустя, получила по почте подарок от своего немецкого друга. Как можно было догадаться, в посылке обнаружился еще один роман Арчимбольди. Она его прочитала, ей понравилось, и она отправилась в библиотеку университета искать другие книги немца с итальянской фамилией. Нашла две: одну ей уже подарили в Берлине, а вторая называлась «Битциус». Она прочла ее и на этот раз бросила все и побежала. В четырехугольнике внутреннего дворика лил дождь, четырехугольник неба над ним походил на оскал робота или бога, сотворенного по нашему подобию, травы в парке наливались соком под косым дождем, косые капли скользили по листьям — вниз, а могли бы скользить и вверх, ничего бы не поменялось, косые (капли) катились бы по наклонной и превращались в круглые (капли), их поглощала почва, питающая травы, и они с землей, похоже, разговаривали, хотя какое там разговаривали — спорили, и непонятные слова их походили на прозрачную паутинку или короткий выдох замерзающего пара, так они поскрипывали на границе слышимого, словно бы Нортон вместо чая этим вечером выпила отвар пейота.
Но нет, она пила чай и ей было не по себе, словно бы кто‑то нашептал ей на ухо жуткую молитву, чьи слова постепенно растворялись в пейзаже по мере того, как она удалялась от университета, а дождь все лил и намокла ее серая юбка, и костлявые колени, и красивые щиколотки — и ничего больше, потому что Лиз Нортон, хоть и бросила все и побежала, все‑таки не забыла прихватить с собой зонтик.
Первый раз Пеллетье, Морини, Эспиноса и Нортон увиделись на конференции по немецкой современной литературе в 1994 году в Бремене. До этого Пеллетье и Морини познакомились на Неделях немецкой литературы в 1989 году в Лейпциге, когда ГДР уже агонизировала, а затем снова встретились на симпозиуме по проблемам немецкой литературы в Манхейме в декабре того же года (от организации этого симпозиума, гостиниц и еды у них остались самые скверные воспоминания). На форуме по современной немецкой литературе в Цюрихе в 1990 году Пеллетье и Морини столкнулись с Эспиносой. А тот снова увиделся с Пеллетье на конференции по вопросам европейской литературы XX века в Маастрихте в 1991 году (Пеллетье там читал доклад под названием ≪Гейне и Арчимбольди: сходящиеся тропы≫, а Эспиноса читал доклад под названием ≪Эрнст Юнгер и Бенно фон Арчимбольди: расходящиеся тропы≫), и можно было сказать, не боясь впасть в неточность, что именно с этого момента они стали не только читать статьи друг друга в профильных журналах, но и подружились (или между ними возникли отношения, очень напоминающие дружбу, как кому больше нравится). В 1992 году на встрече, посвященной немецкой литературе, в Аугсбурге, пути Пеллетье, Эспиносы и Морини снова пересеклись.
Все трое выступали с докладами по творчеству Арчимбольди. Уже несколько месяцев поговаривали, что конференцию почтит своим присутствием сам автор, а кроме того, на столь важное мероприятие должна прибыть, помимо собственно германистов, многочисленная группа немецких писателей и поэтов. Тем не менее в час истины, то есть за два дня до начала конференции, пришла телеграмма от гамбургского издателя, в которой сообщалось, что, увы, Арчимбольди приехать не сможет. Что же до всего остального, то конференция оказалась совершенно провальной. С точки зрения Пеллетье, единственным интересным событием стала прочитанная пожилым берлинским преподавателем лекция по творчеству Арно Шмидта (вот еще, кстати, один немецкий антропоним, оканчивающийся на гласную), а остальное совершенно не заслуживало внимания, причем Эспиноса придерживался точно такого мнения, а Морини не был столь категоричен.
У них было много свободного времени, и они употребили его на осмотр малого, по мнению Пеллетье, числа достопримечательностей Аугсбурга, каковой город Эспиносе тоже показался маленьким, а Морини показался лишь небольшим, но, да, в конечном счете маленьким, и так, по очереди везя коляску с итальянцем, чье здоровье в этот приезд оставляло желать лучшего, а надежд на улучшение было мало, тем не менее его коллеги и приятели посчитали, что прогулка на свежем воздухе Морини не только не повредит, а, напротив, улучшит его состояние.
На следующую конференцию по немецкой литературе, которая проходила в Париже в январе 1992 года, приехали лишь Пеллетье с Эспиносой. Морини тоже приглашали, но он в ту пору чувствовал себя намного хуже обычного, так что врач запретил много чего, в том числе и путешествия — даже недолгие. Конференция оказалась весьма продуктивной и, несмотря на полную занятость, Пеллетье и Эспиноса нашли время, чтобы вместе пообедать в ресторанчике на рю Галанд, что рядом с Сен‑Жюльен‑ле‑Повр, где они, как всегда, поболтали о своих работах и увлечениях, а за десертом обсудили состояние здоровья вечно грустного итальянца, каковое здоровье — скверное, хрупкое, безобразное — почему‑то не помешало ему начать писать книгу об Арчимбольди, и ее, рассказал Пеллетье о своем телефонном разговоре с итальянцем, тот назвал — в шутку или всерьез, непонятно,— великой книгой об Арчимбольди, рыбой‑лоцманом, которая будет плыть в течение долгого времени рядом с огромной черной акулой, каковой являлось творчество немецкого писателя. Оба они — и Пеллетье, и Эспиноса — с уважением относились к ученым штудиям Морини, однако слова Пеллетье (произнесенные словно бы в покое старинного замка или внутри темницы, обнаруженной подо рвом старинного замка) в непринужденной обстановке ресторанчика на рю Галанд прозвучали угрожающе и подвели черту под вечером, в начале которого оба собеседника не ждали друг от друга ничего, кроме вежливого обмена мнениями и рассказов о сбывшихся желаниях.
Все это, однако, нисколько не испортило отношений, в которых состояли Пеллетье и Эспиноса с Морини.
Все трое снова встретились в Болонье в 1993 году на ассамблее, посвященной проблемам немецкоязычной литературы. Кроме того, все трое опубликовали статьи в 46‑м номере берлинского журнала «Вопросы литературы», целиком посвященном творчеству Арчимбольди. Они не первый раз печатались в этом журнале: в сорок четвертом номере вышла статья Эспиносы «Идея Бога в творчестве Арчимбольди и Унамуно». А в тридцать восьмом Морини опубликовал статью, посвященную проблемам изучения немецкой литературы в Италии. А Пеллетье в тридцать седьмом выпустил в свет работу о самых важных немецких авторах двадцатого века в контексте французской и, шире, общеевропейской культуры, и этот текст, надо сказать, вызвал протесты не столь уж малого числа рецензентов и, более того, послужил причиной нескольких вспышек ярости среди коллег по перу.
Однако нас интересует именно сорок шестой номер, потому что именно там стало очевидным разделение исследователей на две противостоящие друг другу группы: Пеллетье, Морини и Эспиноса против Шварца, Борчмайера и Поля; а кроме того, именно в этом номере опубликовали статью Лиз Нортон: блестящую —с точки зрения Пеллетье, хорошо аргументированную —с точки зрения Эспиносы, любопытную —с точки зрения Морини; а еще автор публикации (хотя об этом ее никто не просил) присоединилась к тезисам француза, испанца и итальянца, которых она свободно цитировала, показывая тем самым, что прекрасно знакома с их работами и монографиями, опубликованными в специальных журналах или малыми издательствами.
Пеллетье подумывал написать ей письмо, но в итоге так и не написал. Эспиноса позвонил Пеллетье и спросил, не стоит ли им связаться с ней. Оба пребывали в нерешительности и оттого пришли к соглашению: надо спросить у Морини. Морини вовсе ничего им не ответил. О Лиз Нортон они с уверенностью могли сказать следующее: она преподает немецкую литературу в одном из лондонских университетов.
Да и она, в отличие от них, не профессор.
Конференция по вопросам немецкой литературы в Бремене прошла не без сюрпризов и выдалась весьма шумной. Никто из немецких филологов, занимавшихся Арчимбольди, не ожидал, что Пеллетье с верными его делу Морини и Эспиносой перейдут в наступление подобно Наполеону под Йеной — и вот враг, вставший под знамена Поля, Шварца и Борчмайера, побежит и рассредоточится по кафе и барам Бремена. Молодые немецкие преподаватели, также присутствовавшие на конференции, приняли сторону — с определенными оговорками, конечно, — Пеллетье и компании. Публика, бoльшую часть которой составляли студенты и преподаватели университета, приехавшие из Геттингена на поезде или микроавтобусах, также высказалась — причем безо всяких оговорок — в пользу зажигательных и лапидарных формулировок Пеллетье и с энтузиазмом восприняла дионисийское, праздничное видение текстов Арчимбольди, интерпретирующее его прозу как отражение последнего карнавала (или, если угодно, предпоследнего карнавала), — словом, тоже встала на сторону Пеллетье и Эспиносы. Два дня спустя Шварц со своими подпевалами контратаковали. Фигуре Арчимбольди они противопоставили другую — Генриха Бёлля. И заговорили об ответственности. Противопоставили фигуре Арчимбольди еще и Уве Йонсона. И заговорили о страдании. Противопоставили фигуре Арчимбольди — Гюнтера Грасса! И заговорили о гражданском согласии. Борчмайер дошел до того, что противопоставил фигуре Арчимбольди Фридриха Дюрренматта и заговорил о юморе! Подобное бесстыдство вывело из себя даже Морини. И тут, словно по воле Провидения, появилась Лиз Нортон и отбила контратаку подобно Дезе и Ланну в битве при Маренго: эта белокурая амазонка на совершенном (пусть и слишком быстром) немецком методично растерла оппонентов в пыль, помянув Гриммельсгаузена, Грифиуса и многих других, включая даже Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, более известного под именем Парацельс.
на email:
Читайте также
Политика публикации отзывов
Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:
1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт
На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте support@ast.ru.
2. Мы за вежливость
Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.
3. Ваш отзыв должно быть удобно читать
Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.
4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки
Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.
5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»
Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».
Дайте жалобную книгу
Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.
6. Отзыв – место для ваших впечатлений
Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте support@ast.ru.
7. Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.
В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.
8. Мы уважаем законы РФ
Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.


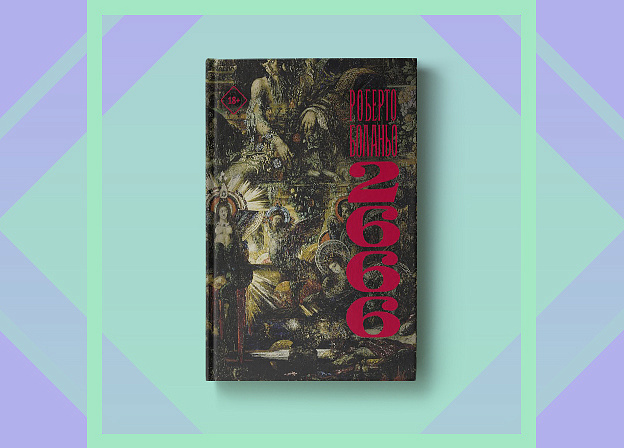
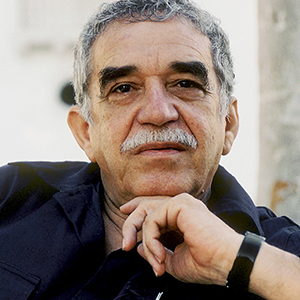
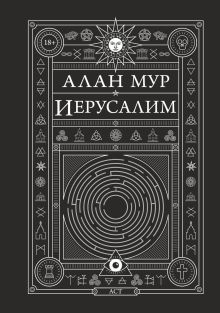

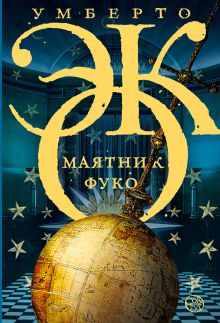








Для этого войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.