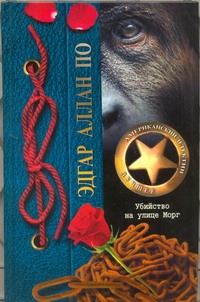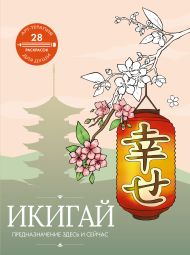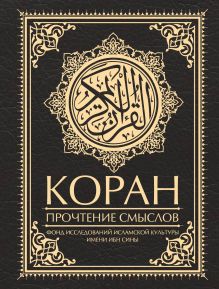Галина Юзефович об устройстве детектива
Книга Галины Юзефович «О чём говорят бестселлеры» готовится к выходу в «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ. За что мы любили Эраста Фандорина, чем объясняется феномен Гарри Поттера и чему нас может научить «Хоббит» Дж.Р.Р.Толкина? Почему мы больше не берем толстые бумажные книги в путешествие? Что общего у «большого американского романа» с романом русским? Как устроен детектив и почему нам так часто не нравятся переводы? За что на самом деле дают Нобелевскую премию и почему к выбору шведских академиков стоит относиться с уважением и доверием, даже если лично вам он не нравится? Как читают современные дети и что с этим делать родителям, которые в детстве читали иначе?
Большинство эссе в книге литературного (или книжного, как она предпочитает называть себя сама) критика Галины Юзефович «О чем говорят бестселлеры» сопровождаются рекомендательными списками — вам будет, что почитать после этой книги. Предлагаем вам прочитать главу из этой книги, рассказывающую о том, как устроен детектив, и чем же привлекают нас книги этого жанра.
В приложениях к сборнику “Только не дворецкий”, подготовленному Александрой Борисенко, Виктором Сонькиным и участниками их переводческого семинара в МГУ, я прочла историю одновременно поразительную и вполне очевидную. Во время Второй мировой войны станции лондонского метро были превращены в бомбоубежища. Скрывавшиеся под землей люди организовали там столовые, спальные места, медпункты и даже библиотеки. И самым востребованным литературным жанром в этих библиотеках были детективные романы — книги, написанные Дороти Сэйерс, Агатой Кристи и другими классиками жанра. Именно истории о зловещих убийствах, кровавых тайнах и коварных преступниках казались обитателям лондонского подземья наиболее светлым и обнадеживающим типом литературы.
Нечто очень похожее я слышала без малого тридцать лет назад от одноклассницы — девочки из не самой благополучной семьи, которой частенько приходилось ночевать дома в одиночестве. В эти нелегкие моменты (моя подруга панически боялась темноты) ее выручали рассказы о Шерлоке Холмсе, обладавшие дивной способностью заговаривать и развеивать ее ночные страхи.
То, что поначалу кажется парадоксальным, в действительности, конечно, вполне закономерно. Как любая история борьбы добра со злом, в которой победа гарантированно останется за добром, детектив оказывает на читателя исключительно благотворное терапевтическое воздействие. Комфортная предсказуемость результата при полной непредсказуемости способов его достижения успокаивает и дарит надежду лучше, чем самая нежная и духоподъемная идиллия.
Истоки детективного жанра принято нынче искать где угодно — то в древнеегипетской литературе, то в средневековой китайской, но на самом деле детектив — изобретение европейское и сравнительно новое.
Понятно, что литература о расследованиях преступлений не могла возникнуть раньше, чем собственно расследования, а ими (сегодня нам это странно представить) никто всерьез не занимался до начала XIX века. До этого идея медленного, целенаправленного, подчиненного определенным правилам поиска преступника никому просто не приходила в голову — злодея либо ловили по горячим следам, либо изобличали очевидцы, либо выдавала какая-то нелепая случайность. Специально обученных людей, призванных планомерно охотиться на преступников, вычислять их мотивы, собирать улики и устанавливать алиби, банально не существовало.
Первооткрывателем и первопроходцем в этой области суждено было стать человеку — выразимся аккуратно — с далеко не безупречной репутацией — Эжену Франсуа Видоку. У нас его знают преимущественно как создателя сыска политического (и в этом качестве традиционно не любят) — на некоторое время его имя даже стало нарицательным в значении “доносчик”, “пособник власти в борьбе со сводобомыслием” (именно так его использует Пушкин в известной эпиграмме, бросая в лицо своему давнему оппоненту Фаддею Булгарину обидную дразнилку “Видок Фиглярин”). Однако помимо политического сыска Видок — к слову сказать, сам бывший преступник, с некоторой периодичностью возвращавшийся к прежнему ремеслу, — создал и сыск уголовный. В 1811 году он обратился в полицейскую префектуру Парижа с предложением организовать и возглавить специальное подразделение по расследованию особо тяжких и запутанных преступлений. Так на свет появилась легендарная Сюрте — департамент французской полиции, состоявший поначалу преимущественно из бывших преступников (Видок был убежден, что вора может поймать только вор) и послуживший прообразом американского ФБР, английского Скотленд-Ярда и других подобного рода институций. А выйдя в окончательную отставку, в 1833 году Эжен Франсуа преподнес будущим авторам детективных романов еще один бесценный подарок — основал первое в мире частное сыскное агентство (сам он его именовал “частной полицией”).
Именно подвиги Видока, цветисто и не вполне достоверно описанные им в скандальных мемуарах, в 1841 году побудили Эдгара Аллана По создать первый в истории литературы настоящий детектив — знаменитый рассказ “Убийство на улице Морг”. Под влиянием новостей из Франции героем своего рассказа он сделал француза, обедневшего аристократа Огюста Дюпена, безупречного мыслителя и интеллектуала, а место действия перенес в Париж. За “Убийством на улице Морг” последовали еще две истории о приключениях Дюпена — “Тайна Мари Роже” и “Похищенное письмо”, после чего По охладел к новоизобретенному жанру и забросил свои детективные эксперименты. Однако золотой канон детектива, его базовая архитектура были сформированы в этих рассказах весьма основательно и, как показал дальнейший опыт, надолго; собственно, основные принципы не теряют актуальности до наших дней. Как и во времена По, детектив сегодня, подобно земле в древних космологических представлениях, покоится на трех слонах: фигуре сыщика, структуре сюжета и антураже (или, если угодно, фоне, на ко тором разворачивается действие).
Несмотря на формальное равенство всех трех слонов, в действительности один из них немного равнее (ну, или просто крупнее) прочих — подлинной основой любого детектива, конечно же, была и, вероятно, навеки останется фигура сыщика. Неслучайно же мы куда чаще говорим “детективы о Шерлоке Холмсе” или “…о Харри Холе”, чем “детективы Артура Конан Дойла” или “детективы Ю Несбе”.
Фигура эта обладает определенными особенностями, ярче всего заметными в сравнении с героями произведений других — более психологически достоверных — жанров. Не так давно я попросила своих студентов вспомнить, что они знают о конан-дойловском Шерлоке Холмсе. После расчистки позднейших напластований, привнесенных в образ великого сыщика многочисленными экранизациями, удалось доподлинно установить следующее. Холмс курит трубку, играет на скрипке, а иногда употребляет наркотики. Он происходит из семьи среднего достатка и в свое время окончил Оксфорд. Он эксцентричен и неаккуратен во всём, что не касается его работы. У него тонкий нос с горбинкой, он высокого роста и очень худощав, но при этом силен и в молодости всерьез занимался боксом. Он асексуален, никогда не был женат, но однажды слегка увлекся аферисткой по имени Ирэн Адлер. Он способный химик, но при этом удивительно невежественен в большинстве других дисциплин (к примеру, не знает, что Земля вращается вокруг Солнца, и отказывается хранить эти сведения в голове). Он холоден, ему неведомы сильные эмоциональные привязанности. Дела он расследует, опираясь исключительно на свой патентованный дедуктивный метод. У него есть старший брат Майкрофт. Собственно, вот и всё — этим наша информация о Холмсе исчерпывается. Мы не знаем, где он вырос и как прошло его детство, кто его родители и живы ли они. Мы не имеем представления, какие у него отношения с братом, что он изучал в Оксфорде, где выучился играть на скрипке, как у него с деньгами (видимо, не очень, раз он не может позволить себе снимать квартиру в одиночку; но при этом во многих рассказах он ведет себя как богач). Конан Дойл не знакомит нас ни с одним другом Холмса помимо верного Ватсона. Мы ни в какой момент не становимся свидетелями его внутренней борьбы, угрызений совести, сожалений, со- мнений, травм, обид, надежд, разочарований...
И дело тут вовсе не в том, что Конан Дойл — никудышный писатель и не может придумать нормального, живого и объемного героя. Конан Дойл отлично знает, что делает: хороший сыщик — это в первую очередь функция, его задача — расследовать преступления, и всё, что для этой задачи не требуется, можно без всякого ущерба отсечь (по- пробуйте провести аналогичный мысленный эксперимент с Эркюлем Пуаро — поверьте, результат будет примерно тот же). Пытаться сделать сыщика полноценным трехмерным объектом вроде Ивана Карамазова или Анны Карениной примерно так же нелепо и избыточно, как пририсовывать ноги к погрудному портрету или приделывать затылок барельефу. Сыщик должен быть ярким, обладать характерными чертами (вроде трубки, неутолимой любви к орхидеям или роскошных усов) и уметь ловить преступников — а психологические глубины сыщику не только не нужны, но прямо-таки противопоказаны.
На протяжении долгого времени классический романный сыщик оставался любителем (то есть последователем Эжена Франсуа Видока в его второй ипостаси частного детектива); профессиональным же полицейским отводилась роль в лучшем случае второстепенная, а в худшем — откровенно комическая, гротескная. Сыщик должен был вступать в поединок со злом не в силу скучной профессиональной необходимости, а по зову сердца — как истинный рыцарь, лишенный корысти. Неслучайно даже тема гонорара в классическом детективе почти никогда не затрагивается — сыщики либо вовсе отказываются от него из благородных соображений, либо передают заработанные деньги на благие дела, либо просто оставляют этот вопрос за скобками.
Но, пожалуй, довольно о сыщике. Второй слон, поддерживающий основания детективного канона, — это, конечно, сюжет. Правильный детектив начинается с убийства — ни одно другое преступление не может составить ему достойную конкуренцию, поэтому тексты, в которых сыщику приходится иметь дело с грабежом, мошенничеством или другими сравнительно “вегетарианскими” формами правонарушений, встречаются реже и, как правило, менее популярны.
Идеально, если убийство всего одно: так, герой повести Ивлина Во “Работа прервана”, писатель-детективщик, гордо называет себя “однотруповым” писателем, утверждая, что второй труп автор выкладывает исключительно от беспомощности и неспособности иным способом провернуть романные шестеренки.
Итак, убийство свершилось, сыщик взял след, и с этого момента начинается последовательное разгадывание головоломки, в которой вместе с подлинными ключами автор выкладывает на стол перед сыщиком (а заодно и перед читателем) ключи ложные, пустышки, призванные направить следствие по неверному пути. По идее, в процессе чтения читатель ищет разгадку параллельно с сыщиком, однако в действительности соперничество между ними иллюзорно. В этом соревновании любой здравомыслящий читатель желает победы своему конкуренту, и, как можно дольше оставаясь в неведении, испытывает при этом глубочайшее удовлетворение (нет ничего хуже, чем вычислить преступника и его мотивы раньше, чем это сделает Пуаро, лорд Питер Уимзи или Ниро Вулф). Ну, а разрешается детективная коллизия впечатляющим катарсисом: сыщик собирает всех подозреваемых в библиотеке или возле камина в гостиной (читатель, затаив дыхание, незримо устраивается на краешке стула в заднем ряду) и, неспешно изложив им ход своих умозаключений, указывает на преступника. Невинные оправданы, темная туча рассеялась, новых смертей не ожидается, добро торжествует повсеместно, зло в панике бежит, но ему негде укрыться от сыщика в сверкающих латах, с сияющим копьем наперевес. Читатели аплодируют, занавес опускается.
Часто важным участником расследования становится помощник сыщика — у Эдгара По он был безликим и безымянным, однако уже Конан Дойл снабдил его лицом, именем и характером, сделав, по сути, таким же важным персонажем, как сам Шерлок Холмс. Формально помощник помогает сыщику, однако на самом деле он — агент читателя: его задача — задавать своему блистательному другу ровно те вопросы, которые задали бы ему мы сами (именно поэтому помощник не слишком умен — как правило, немного глупее среднестатистического читателя, что, ясное дело, добавляет ему очарования в наших глазах). Именно поэтому помощнику (в отличие от сыщика) позволено демонстрировать немного человеческих слабостей, тонких переживаний и эмоциональных глубин — иначе нам трудно будет себя с ним проассоциировать и признать своим полноправным представителем в мире романа.
Ну, и наконец третий детективный слон — это антураж. В рамках классического детектива “задник” должен был максимально диссонировать с кровавой интригой. Чем ярче светит солнце над зелеными лужайками сельской Англии, чем степеннее жизнь на Манхэттене в районе Десятой авеню — где стоит дом Ниро Вулфа, чем жарче пылает камин на Бейкер-стрит, — тем страшнее дела, вершащиеся по соседству. В английском языке даже существует специальный термин — “cozy murders”, “уютные убийства”: дополнительное напряжение в них нагнетается за счет пугающего контраста между светом и тенью, космосом обыденной жизни и хаосом преступления.
Такой тип детектива, надежно закрепленный на спинах трех слонов, часто называют whodunit — буквально “кто это сделал”, и именно он оставался самым популярным в годы, предшествующие Второй мировой войне, во времена Гилберта Кита Честертона, Агаты Кристи, Дороти Сэйерс, Рональда Нокса и других корифеев.
Рональд Нокс, католический священник, писатель, критик и радиоведущий (а еще большой любитель розыгрышей — однажды в радиоэфире он сообщил слушателям, что в Англии началась революция и Лондон захвачен коммунистами, спровоцировав тем самым нешуточную панику), взял на себя труд подробно сформулировать главные правила жанра. В настоящем детективе не дозволялась никакая мистика — все события (даже самые фантастические и невероятные) должны были в конце концов получить рациональное, логичное объяснение. Убийца должен был появиться в первой трети книги и не пропадать из поля зрения читателя вплоть до самой развязки. Сыщик не имел права оказаться убийцей и вообще, читателю не полагалось наблюдать за мыслями и чувствами преступника “изнутри” (это правило было нарушено Агатой Кристи в ее шедевре “Убийство Роджера Экройда”). Орудием убийства не мог служить неизвестный науке и не оставляющий следов яд или какое-нибудь чрезмерно сложное техническое приспособление. Сыщик не должен был утаивать от читателя найденные им ключи или подсказки, а также полагаться на интуицию. Ну, и конечно, никакие случайности и счастливые совпадения не допускались ни при каких обстоятельствах.
Ясный, позитивистский по духу и в высшей степени оптимистичный по общему настрою классический детектив привольно цвел на протяжении двадцатых и особенно тридцатых годов прошлого века. Однако накануне Второй мировой войны что-то в воздухе неуловимо изменилось — свет померк, тени удлинились, и в обществе начались поиски причин атипичной, чрезмерной, по мнению многих, успешности криминального жанра. То, что огромному количеству людей постоянно требовалась эмоциональная анестезия, которую обеспечивал детектив, многим стало казаться нездоровым симптомом.
Американский журналист и крупнейший литературный критик Эдмунд Уилсон, собираясь в 1944 году в Европу освещать события на фронте, написал для журнала The New Yorker небольшое эссе об истоках популярности детектива. Вот к каким выводам он пришел: “Мир в эти годы (в период между мировыми войнами. — Г.Ю.) был охвачен всепроникающим чувством вины и страхом перед надвигающейся катастрофой, которую, казалось, нельзя предотвратить, поскольку невозможно доподлинно установить, на ком же лежит изначальная вина. (...) Все по очереди оказываются под подозрением, а улицы так и кишат тайными злоумышленниками. Кажется, что все здесь виновны, над всеми равно нависла опасность. А потом внезапно убийца разоблачен, и — о, какое облегчение! — он, конечно же, совсем не похож на нас с вами. Он настоящий злодей, и его, наконец, вывел на чистую воду всеблагой и всезнающий сыщик”. Коротко говоря, Уилсон считал, что давящее и слабо отрефлексированное общеевропейское предвоенное чувство вины и тревоги искало выхода — и находило его в “инфантильном” увлечении детективным жанром, который дарил читателю блаженное забытье и уверенность в том, что во всём происходящем виноват кто-то другой, не он сам и не люди вроде него.
Логичным образом в послевоенный период пристрастие к детективам начинает восприниматься как нечто не вполне достойное — как попытка эскапизма и ухода от реальных проблем (позднее такие же претензии будут предъявлять жанру фэнтези). Параллельно с этим начинается расшатывание и размывание детективного канона: консервативный и старомодный whodunit отходит на периферию, а на авансцене теперь блистают разные формы так называемого “инвертированного” детектива — или детектива howcatchem, “как их поймать”. Такой “обратный” принцип организации детективной интриги — от развязки к завязке, от определения убийцы к его поимке и установлению мотивов смещает фокус с сыщика-джентльмена, на досуге развлекающего себя изысканной головоломкой, на трудягу-полицейского, идущего по следу убийцы. В детективах становится заметно больше крови, интрига усложняется и ветвится, а многие правила, незыблемые для Рональда Нокса, теряют свою актуальность — так, сегодня никто уже, в общем, не отрицает существования профессиональной интуиции, а значит, в определенных пределах полагаться на нее тоже не зазорно.
Однако несмотря на многократные изменения в статусе (от изысканной интеллектуальной игрушки к социально не одобряемой форме эскапизма, затем — к малопочтенной забаве для низших классов, а оттуда — снова вверх, к каким-то заоблачным и не вполне пока осязаемым высям) и прочие серьезные мутации, в основе своей детектив остается удивительно стабильным. Эксцентричный, обаятельный сыщик идет по следу преступника, решая в процессе множество затейливых ребусов наперегонки с читателем. Помощник сыщика восхищается гением своего друга, а попутно объясняет и комментирует его действия. Мирное течение жизни нарушено вторжением сил зла, и только сыщику по силам восстановить изначальную гармонию — что он непременно осуществит в финале. И до тех пор, покуда все эти принципы остаются незыблемыми, пока добро уверенно торжествует над злом, мы всегда можем рассчитывать найти в детективе утешение в скорбях, укрытие от насущных проблем и безотказную анестезию. Ну, а если кому-то это стремление кажется “инфантильным” — что ж, пожелаем ему никогда в жизни не испытать потребности ни в чем подобном.
на email:
Цыпкин Александр Евгеньевич
Тараканова Марина Владимировна
Гришэм Джон
Рейли Кора
Успенский Эдуард Николаевич
Завидова Елена
Уатт Эрин
Макманус Карен М.
Итагаки Пару
Шепс Александр Олегович
Жебрак Михаил
Вильмонт Екатерина Николаевна
Коста Габриэль
Дуглас Пенелопа
Нгуен Вьет Тхань
Оно Фуюми
Юзефович Леонид Абрамович
Матюшкина Катя
Моран Фэя
Кокта Марина Валериевна
Трясорукова Татьяна Петровна
Читайте также
Вы смотрели
Политика публикации отзывов
Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:
1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт
На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте support@ast.ru.
2. Мы за вежливость
Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.
3. Ваш отзыв должно быть удобно читать
Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.
4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки
Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.
5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»
Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».
Дайте жалобную книгу
Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.
6. Отзыв – место для ваших впечатлений
Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте support@ast.ru.
7. Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.
В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.
8. Мы уважаем законы РФ
Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.