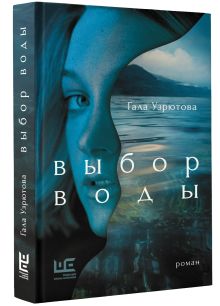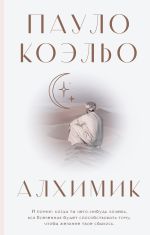Цитаты
«В детстве я думала, что в каждом городе есть Волга, и все дети растут у Волги. Любая река — это Волга.
Все отцы уходят на Волгу, чтобы добыть гостинцы для детей. Они сидят у реки, она даёт их детям добычу. И то, что было внутри неё, не кончалось. И она сама не кончалась. Волга текла через все города, и к ней припадали все отцы всех детей.
Отцы сидели вдоль реки и смотрели на воду. Их отцы, деды и прадеды так же сидели у той же реки, которая текла через те же города.
Волга думала о них — и решала, что кому нужно, чего кому не хватает. Отцы подставляли руки. В них река клала мокрые яблоки, рыбу, шоколад, жвачки и конфеты. Волга — не жадная, она отдавала всё. Поэтому люди и живут к реке, а не от.
Отцы возвращались с реки молча, чтобы не разбудить рыб за спиной в мешке. Чтобы не разбудить детей. Когда отцы приносили рыбу домой, матери уже знали, что делать. Как знали их матери, и матери их матерей».
«Есть люди, которые словно на поверхности, а есть те, которые в глубине. Те, что на поверхности, — они скользят, как водомерки. Легко скользят. Туда-сюда, их ничего не держит. Они на воде. А есть — как рыбы, они — под водой. И вода не дает им так легко скользить. Рыба, которая в глубине, смотрит наверх: погода ясная, ветра нет, и она видит водомерку. Водомерка так красиво скользит. Рыбе интересно, потому что она так не может. Не может вылезти из воды и скользить по ней. И водомерка — тоже однажды видит рыбу, ей тоже — любопытно, что там — в глубине, как это — быть в глубине. Они с разных сторон воды смотрят друг на друга, им интересно, но вместе они быть не могут».
«В этом мире во́ды отходят сразу в Волгу. Дети рождаются сразу в реку, намокая так же, как песок, и оставаясь обнажёнными. И расходясь подомну под руку с матерями.
Пой, пока снег идёт. Пой, пока он белый».
«Равнина — лучшее, что с тобой может быть, говорил дед. Ничего не меняется, всё идет, как надо. Всё знакомо, всё ново. Куда ни посмотри, мало не будет, равнина не кончается.
Я знаю равнину, она знает меня, — и хватит. Если хочется перекинуться с кем-то парой слов, набираю в рот ветра — и наговорилась. Теперь можно ещё лет сто идти молча. Никто не окликнет, никто не позовёт.
Да я и сама уже не помню своего имени. Помню только: когда меня родили на равнине, назвали не сразу — присматривались. Пустили по полю — и смотрели, как пойду: сверну или по прямой. Я шла верно. Имя дали моё, чужого не надо.
Одного дня хватило, чтобы научиться ходить по равнине. Дед показал, как ноги ставить, бабка — где молоко течёт».
«Автобусы отменили — значит, идти по замёрзшей Волге пешком. До деревни, в которую тебя распределили учителем. До деревни, где все спрятались и не ждут. Здесь свои правила, а у тебя — только правила русского языка.
Иди прямо и ни о чём не думай; от этого появляется смелость. Не сворачивай, даже если справа всё кажется верным. Не останавливайся, даже если устала. Вот твои новые правила: не сворачивай и не останавливайся.
Всё, что попадает под ноги, должно быть пройдено, даже если это буран или замёрзшая Волга шириной семь километров. Уроки должны начаться вовремя, русский язык — в понедельник.
Волга здесь — главный учебник. И по русскому, и по математике, и по географии. Потрёпанный учебник, под страницами которого утопили деревни и острова, устраивая водохранилище.
Теперь они мёрзнут подо льдом. Если ветер сильный, а лёд прозрачный, можно разглядеть, как там живут, как бродят по ягоды на острове, как копают огороды и идут в церкви. Они движутся медленно — торопиться подо льдом незачем. Торопятся только надо льдом.
Единственное, чему можно научить волжских детей, — не торопиться, когда идёшь по льду. Это им точно пригодится. Как и умение переносить дома с яра на зады, чтобы избы не ушли под воду вместе с затапливаемыми крайними рядами. Несём наши дома на зады. Несём ближе к лесу, подальше от воды. Несём их в руках как нежданную добычу.
В такую погоду даже рыбаки на лёд не вышли. Ни слова, ни крика — всё сотрёт ветер.
Все, ходившие по замёрзшим рекам, — каковы ваши имена?
Повернуть назад? Но впереди уже меньше, чем за спиной.
Теперь двигаться дальше. На чужое тепло. Слушать, как подо льдом звонят колокола, зазывая на вечернюю службу».
«В городе, построенном на холмах, не нужны фитнес-залы. Нескольких сотен Stäffele* достаточно для прогулок по террасам, после которых ноги гудят.
С холмов Штутгарта текут рислинг и троллингер. Когда смотришь на город из окна, он умещается в одну фотографию, на которой меняются только прохожие».
«Руки не согреть, в карманах место занято. То, что положили в детстве в карманы, остаётся в них навсегда. Доставай — и показывай.
Только сначала выгреби оттуда снег.
А дальше — ключи, грязные монеты, серый волк, солёные помидоры, сандалии с прилипшим горячим асфальтом, плацкартные вагоны с запахом чёрного чая, многобудешьзнатьскоросостаришься, чемоданы дынь, растаявшие бабушкины конфеты, тихий час, лагерь на Чёрном море, творожная запеканка, зелёнка, октябрятская звёздочка, звуки свай, ёлочная игрушка в виде кукурузы, валенки, вермишель с молоком. Выворачиваешь, снег сыплется и сыплется».
«На Венецию возложили слишком много обязанностей для одного города, и она с ними не справляется. (...) Венеция не уходит под воду, а выплывает из нее».
«После Волги ведут за руку в избу. Внутри дома снегу уже места нет, внутри — только горячее.
Мы хлебаем шулюмку деревянными ложками из одной миски. В ней тяжелеют потроха. В наш суп попадают куры соседкины, дичь охотников, живущих на задах. В наш суп другим не лезть.
Снаружи — холодно. Снаружи — ветер с гнилой стороны.
Остаёмся в избе, следуя инстинктам. Смотрим на печь, катаем новогодние шары по полу друг другу, обживаем пространство, трогая его, запоминая.
В животах переваривается мясо.
Из леса доносится считалка, но мне никто не верит. Они говорят, что не слышат её. Но я — слышу.
В ковчеге деревянной избы плывём по снегу. Плывём на лето, когда вода в реке поднимется».
«В Голландии особенно сильно ощущается, что здесь дорога перестала быть событием. Из Роттердама в Гаагу едешь на метро, а из Гааги в Делфт — на трамвае. Ещё не успеваешь уложить внутри Гаагу, как за окном уже видны башни церквей Делфта. Уже смотришь, как в Делфте катаются по каналам на коньках, — а мозг всё ещё пытается распознать Гаагу.
То же чувствуешь, когда за полдня поезд успевает пересечь четыре страны. Когда еду по России, из окна поезда края страны не увидеть.
Материк становится островом, если он кончается.
Не то чтобы я хочу убедиться — край страны существует. Скорее, хочу понять, где существую я».
«Бабушка молилась за всех нас. Во рту было так намолено, что слов не вставить. Снега-то намололо, говорила. Снега-то перебелено, что измято».
«Море — мясистое продолжение берега. По берегу ходят только парами, но и они редки. Одни уставились под ноги, вторые швыряют ракушки, третьи следят за собаками. Мало кто поворачивает голову в сторону моря. Зато море на них смотрит. Поднимаясь, волна щёлкает затвором, делая снимок за снимком. В её архиве — миллиарды кадров, запомнивших чужие движения, взгляды и руки в карманах.
Море — это жидкая память, шевелящаяся от тяжести и ветра. Беспрерывно движущаяся память, смешавшая кадры за сотни лет в одну бесконечную мокрую фотопленку. Когда кто-нибудь догадается ее проявить, увидит всё то, что сбывается только на чужих снимках».
«Свет делает всё прозрачным. Это ясно, когда зимой просыпаешься в школу до рассвета. В 6 утра в глаза бил яркий свет лампы, означавший — пора собираться на уроки. Даже если за окном темнота, зима и холод. Нужно вылезать из-под тёплого одеяла и идти по сугробам.
Как подняться, если за окном такая тьма? Как согласиться на эту тьму?..
Если оќна в доме напротив уже сварились в желтки — значит, я проспала. Если нет — ещё можно поваляться.
Для создания приятного тёмного мира хватало одного одеяла, которое родители тут же поднимали, заметив, что я опять уснула. Каждое утро я вылезала из верблюжьей шерсти, как из утробы. Наплававшись в тёплых околоплодных водах, трудно сразу выйти в зиму. Нужно сначала крикнуть, затем научиться ходить и говорить.
До сих пор щёлкает внутри каждый раз, когда рано утром кто-то зажигает свет. Сразу прошу выключить лампу. Выключить знание того, что день начался, а ты к нему не готова. Знание того, что никогда не будешь к нему готова, сколько ни закрывайся одеялом. Выключить неизбежность выхода в темноту, которая утверждалась на середине бутерброда с сыром в 6:50».
«Пассажир выпадает из поезда, другой выпадает, третий, — но состав едет дальше. Он уже разогнался и не может затормозить. Сосчитать вагоны — не выйдет: равнина умножает их ежеминутно. Если в первом вагоне идёт снег, то в среднем — паводки, а в последнем зацветает вишня. В чётных вагонах говорят на русском, в нечётных — на татарском. Туда едут бабки нянчить внуков, обратно — отцы, везут деньги с вахты. Через месяц бабки поедут обратно, отцы — туда.
Можно отцепить свой вагон и уехать, но каждый ждёт, пока поезд высадит соседа у его дома, чтобы тот не заблудился. Соседи при больших расстояниях необходимы. Вынул из печи хлеб — прежде отнеси соседу.
Если в поезде включили свет — всё за окном исчезает, исчезает расстояние. Длина становится недоступной. Она чувствуется только в шатании, которое ведёт от вагона к вагону. Влево, вправо, прямо. Равновесие в ногах и есть протяжённость страны».
«На равнине живёшь как на ладони, отчего под вечер хочется спрятаться. Появись на этой плоскости затишок — в нём сразу скапливаются те, кому в поле неловко.
Устроился за киоском, открыл бутылку пива — и тебя никто не видит. Ни патруль, ни жена, ни ветер».
«Меня поражает, насколько разными могут быть воспоминания об одном и том же у двух людей. У нас с бывшей фигня такая была. Встретились года через полтора после расставания. Она говорит: я вспоминаю тот шалаш, который ты для меня сделал. Я спрашиваю: какой хренов шалаш? Она: ну помнишь, я к тебе в дом пришла, а ты во дворе построил для меня шалаш, и мы там лежали, болтали. А я этот шалаш для сестры младшей делал. Она тогда раньше сестры пришла, и я позвал её полежать там. Для меня это был просто шалаш для сестры — а она всё это время помнила, что тот шалаш я сделал специально для неё. У неё один шалаш — у меня другой. Мы все живём в своих шалашах».
«Любить места больше, чем людей, или вместо людей — вариант, поначалу кажущийся спасительным, но со временем проявляющийся такой же тугой швартовкой — к запаху асфальта, забитого дерьмом чаек, на соседней с морем улице; к усталости таксиста, часто берущего твои вызовы; к подлинной темноте в квартире напротив со всегда открытым балконом; к Дому музыки, мимо которого ходила к отцу в больницу и на афишу которого тогда подписалась, а через столько лет все никак не можешь отписаться и ненавидишь ее заново, каждый раз, когда она сваливается во входящие, к пятнистому свету в аллеях ботанического сада или к вечному старику в окне».
«— У тебя кириллица на бедре?
За шортами Джейкоба мелькнула татуировка со словом „дорога“ на русском языке.
— Дорога. Самое главное слово. Встречался одно время со студенткой из России, она меня научила.
— Дорога похожа на время. Только она остаётся, если ты поворачиваешь, и всегда можно вернуться. Со временем такое не прокатит».
«Выброси это из головы! Non ti preoccupare! Знаешь, почему я ненавижу ту станцию? Когда я начала ходить в школу, отец уехал с неё в Милан и сказал нам с матерью, что вернётся через месяц. Но он так и не вернулся, а я всё ждала. Просила мать водить меня сюда и ждать очередного поезда из Милана. Но среди пассажиров отца никогда не было. Потом нам сказали, что в Милане у него другая семья. А я всё жду, что он выйдет из этого дурацкого здания. Столько лет прошло — а я так и жду. И не могу отсюда уехать — боюсь пропустить тот самый поезд из Милана».