
Александр Генис: «Марину Абрамович я ненавижу, и перформансы её тоже»
Первая часть лекции.
Вторая часть лекции.
«Александр, добрый вечер. Читали ли Вы работу Павла Муратова «Об искусстве Италии»? На литературные работы каких современных искусствоведов Вы посоветовали бы обратить внимание?»
Чтобы не забыть про последний вопрос: я недавно нашёл книгу Даниловой. Это искусствовед (она умерла, к несчастью), которая работала в Пушкинском музее, «Судьба картины в европейской традиции». Потрясающая книга, я был просто восхищён. Найдите её и прочтите. Это книга, которая объясняет, например, в чём разница между иконой и картиной, и это делает очень интересно, не буду, не буду раскрывать, спойлерить, как сейчас говорят.
Павел Муратов, «Об искусстве Италии». Вы знаете, с этой книгой, у меня это двухтомник, на самом деле связано очень многое. Когда-то эту книгу брали с собой молодожёны, потому что в России, нормальной России, молодожёны ездили в свадебные путешествия обычно в Италию, и они брали с собой такую книгу, чтобы понять Италию. Потом учителя, педагоги брали с собой её. И она объясняет, что и как написано, но, на мой взгляд, она чересчур импрессионистична и нарядна, я люблю более сухой акмеистский стиль живописи. Знаете, кто лучше всего писал о живописи? Это Мандельштам. Вот в его прозе, у него есть такая глава «Французы» в «Путешествии в Армению», где он объясняет, кто такие импрессионисты и как они излечивают, как он пишет, от «безвредной чумы реализма». Но это не фокус, потому что Мандельштам обо всём лучше всего писал, о музыке, например, тоже. Но Павел Муратов – конечно, достойная книга и очень полезная, и её хорошо бы читать вместе знаете с кем? С Буркхардтом. Ренессанс, он написал лучшую книгу о Ренессансе, и западные молодожёны именно «Культуру Италии в эпоху Ренессанса» Буркхардта брали в свадебное путешествие, а потом англичане брали Рёскина с собой. Но так или иначе целые поколения выросли на этих искусствоведческих трудах, и, конечно, к ним надо обращаться, прежде чем вы куда-нибудь едете, хорошо это сделать заранее.
«Как вы думаете, надо ли было возродить Музей западного искусства, как хотела Ирина Антонова?»
Вы знаете, это вопрос чисто административный. Я вообще не вижу в этих спорах большого смысла. Вот, например, многие говорят о том, как ужасно поступил Сталин, когда продал картины на Запад за какие-то паровозы – паровозы давно заржавели, а картины бесценны, и они остались такими, какими они были. Я однажды был в Лиссабоне, там есть музей Гульбенкяна – он весь составлен из картин, проданных Сталиным из Эрмитажа. Конечно, это преступление перед русским искусством – не Сталин их собирал, эти картины. Но с другой стороны – они же никуда не делись. Это круговорот картин в природе. Ну а как они попали в Эрмитаж? Они же тоже приехали откуда-то – из Италии, из Голландии. И картины должны вращаться, это нормально, что они расходятся по всему миру. Более того – это хорошо.
Почему русскую живопись так плохо знают на Западе? Да потому что в советское время она не участвовала в круговороте картин, и поэтому, в общем, не было выставок, не было каталогов, никто не видел эту живопись, и это очень печально. Вот во всём Метрополитене, есть только две русские картины – это одна «Портрет Гаршина» работы Репина и картина небольшая Сурикова, и совершенно непонятно и неизвестно всё это дело. И поэтому они не участвовали в художественной жизни, эти картины – железный занавес работал в обе стороны. Но когда музей Гуггенхайм устроил выставку, которая называлась очень просто – «Russia!», с восклицательным знаком, «Россия!», и там были выставлены всякие передвижники, все наши, собственно, от икон до Кулика, там все были, но особенно много было именно XIX век, именно передвижников, которых никто не знал. И эта выставка пользовалась огромным успехом – 400 тысяч зрителей её посетили. И впервые, в общем, увидели, что русское искусство – не только Малевич, которого все принимают за единственного русского художника, Малевича и Кандинского, которых на Западе знали. Я на эту выставку ходил три раза, потому что это была для меня такая редкая возможность насладиться картинами моего детства. И знаете, какая самая популярная картина была на выставке? Это «Бурлаки» Репина. И я помню, я стоял около этой картины, рассматривал бурлаков, ко мне подошёл негритёнок лет десяти и спросил: excuse me, Mister, who is Jesus, where is Jesus here? «Где здесь Христос?» Он совершенно справедливо принял бурлаков за апостолов. Я думаю, что Репину очень бы понравилась эта интерпретация.
«Как Вы думаете, почему на Серова была такая дикая очередь? Обычная выставка, даже рядовая и заурядная».
Я выставку не видел, не верю в то, что она рядовая и заурядная, потому что Серова я чрезвычайно люблю и очень-очень высоко ценю. Я представляю себе, что если бы я был куратором любого американского музея, если бы у меня была власть, я бы устроил три выставки, которые открыли бы американцам глаза на русскую живопись. Без Малевича, естественно, потому что выставки Малевича и так часто устраивают. Это была бы выставка большая, вот такая, как в Москве была, Серова, Врубеля и Филонова. Вот три художника, которые изменили бы представление американцев о русской живописи. И Серов, конечно, мастер великий, кстати, в том числе и анималистических работ. Знаете, у Серова есть картина, иллюстрация к «Одиссее», в сущности, и там стоит Навсикая, и она встречает Одиссея. Я могу рассматривать часами эту картину, хотя это маленькая работа, потому что мне кажется, что на ней изображён мир, в котором ещё ничего не было, что это вот и есть первоначальный мир, мир эпоса, когда ещё нету городов, ещё нету цивилизации, но уже есть вот эти вот фигурки, есть небо, которое ещё не знает дыма, не знает труб, не знает нашей культуры, это вот начало. И эта работа Серова – это такой дом поистине.
«Александр, что бы Вы выделили живописи Климта, что делает его паттерны такими эстетически совершенными и чувственными одновременно?»
С Климтом вообще произошла великая история, потому что Климт считался второстепенным модернистом, и вдруг в Америке открылся музей австрийского и немецкого модернизма, и Лаудер, человек, который подарил этот музей Нью-Йорка, купил картину, как вы знаете, «Женщина в золотом», это портрет сахарозаводчика Бауэра, жены его. И этот золотой портрет стал самой знаменитой картиной в Нью-Йорке, это считается «Мона Лизой» Нью-Йорка. И сразу это дело переписало, потому что денег было потрачено столько – эта картина стоила больше, чем весь музей, что это как-то переписало историю искусства, и Климт вышел на первое место.
Надо сказать, что Климт – любимец публики, но не критиков – они считают его слишком декоративным. Но я-то Климта страстно люблю, потому что Климт – это последний язычник Европы. Вы говорите о паттернах, которые у него есть на картинах. Если присмотреться, то это и есть западная культура в символах. Вот на этом золотом портрете, например, там изображены и древнеегипетские символы, и греческие, и христианские, и все это шлейф культуры, который заворачивает женщину. Женщина – это Европа, это утомлённая, перегруженная культурой Европа. Особенно похоже на австрийскую Европу, которая и была квинтэссенцией культуры Европы того времени, belle epoque. И именно поэтому есть какая-то таинственное, загадочное золотое мерцание на картинах Климта, которое выделяет его. Он одновременно и модернист, но одновременно связан с реалистической традицией. Поэтому головы на его портретах, которые мы видим – они всегда очень психологичны. Мы в них видим гораздо больше, чем обычно привыкли видеть на картинах экспрессионистов, например, у Шиле, его последователя, которого я тоже страстно люблю, но Климт гораздо мягче. Климт – это ещё Чехов, а Шиле – это уже Беккет, но оба они составляют историю европейской живописи и австрийской в том числе. Когда Шиле молодой пришёл к Климту, он спросил: «Есть ли у меня талант? Климт сказал: «Слишком много!» И он был прав, конечно.
«Мало понимаю в живописи, но возникла какая-то экзистенциальная необходимость понимать. С чего начать? Спасибо».
Найдите около себя музей, если вы в Москве, то уж там этого хватает, и начните с того, что прочтите одну книгу, которую должен прочитать каждый вменяемый человек, желательно в детстве – это «История искусств» Гомбриха. Гомбрих, серьёзный искусствовед, бежал от немцев в Англию и написал, в общем-то, для денег простую историю искусств. Она настолько восхитительно написана, что её издают без конца и для всех, начиная со школьников. Но она написана именно что для всех. Интересна эта книга ещё и тем, что она объясняет, чем одно искусство отличается от другого. Я ненавидел свою школу, потому что на уроках литературы нам объясняли, что все поэты, все писатели, кто бы это ни был, они все абсолютно одинаковые, потому что они все были за народ. И я так возненавидел школьную литературу, что столько лет с ней борюсь. И то же самое с живописью. А вот Гомбрих объясняет, чем одно отличается от другого. И вы знаете, это самое важное, что мы должны понимать не только в живописи, а в любой культуре – как одно отличается от другого. Конфуций сказал, что очень важно бесконечное разделение, расщепление вещей, нужно понимать, как одно отличается от другого. Чем больше мы расщепляем вещь, тем лучше мы её понимаем. Вот попробуйте начать именно с этого и найдите то, что Вам нравится, то, что Вы любите больше другого. И вдруг Вы увидите, что чем больше Вы знаете, тем больше Вы любите, это уж точно, и как это расширяется во все стороны.
Знаете, как со мной произошло? Я жил в Риге, и в Риге был музей, как в каждом городе, латвийский народный музей. И там было изрядное количество латвийских передвижников, которые не так уж сильно отличались от русских передвижников. Но благодаря случайному стечению обстоятельств в этом музее был зал Рериха. В Риге жили поклонники Рериха, и ещё до войны они списались с Рерихом, который прислал им в подарок несколько своих картин. И я туда ходил, как на работу, я ещё был пионером, и это была жажда дальних странствий. Я просто влюбился в эти картины. Ведь когда я приехал в Нью-Йорк, я вдруг узнал, хотя никогда раньше не слышал, что в Нью-Йорке есть музей Рериха, в котором находятся больше 200 его полотен. И я не устаю туда ходить. Недавно удостоился чести выступать в этом музее, читать лекцию там. Мне было страшно приятно, потому что любовь к живописи, как к чему угодно, начинается с пустяка, какого-нибудь одного. Что-нибудь одно полюбите – и вдруг вы выясните, что оно всё тянет за собой другое. Вот как повезло мне с Рерихом, я уверен, что всегда есть какой-то художник, какая-то картина, которая вас задела, и она потянет за собой все остальные.
«Прочитала «Картинки с выставки» с удовольствием. Спасибо, Александр, за отличную литературу».
Спасибо Вам.
«Вы любите холодную или тёплую гамму? Менялись ли предпочтения с возрастом?»
Холодная или тёплая гамма – это вопрос к художникам. Это так же, как спросить: вы любите гласные или согласные звуки? А что касается предпочтений с возрастом, то это, конечно, интересный вопрос, потому что… Я знаю, что я любил всегда. Если так очень грубо, очень условно говорить, то всю мировую живопись можно разделить на две категории: одна – это живопись сокола, другая – живопись ужа. Вот итальянцы – это живопись сокола, это фрески, это надо смотреть издалека, надо смотреть сверху, это много, это большое. А вот тевтонская, германская живопись – это живопись ужа, потому что её надо изучать медленно и ползти за художником, это искусство Дюрера, а не Леонардо, искусство гравюры, а не фрески. И я вырос в северном городе Рига, и я, конечно, больше люблю вот эту германскую живопись. И я потратил… Но это надо очень широко понимать, потому что германская – это значит и Брандс, и голландцы, и кто угодно. Но я очень много сил потратил на то, чтобы полюбить итальянцев. Например, Рафаэля. И эта вот борьба с Рафаэлем, она у меня продолжалась десятки лет, причём вот тот самый Вагрич Бахчанян, о котором я столько вспоминаю, он любил всякую авангардную живопись, авангардное искусство, и понятно. А я его спросил однажды: а вот скажи мне, из старых мастеров кто тебе нравится? И Вагрич так застенчиво сказал: ну, Рафаэль – это ангел. И я пытался полюбить Рафаэля. И вы знаете, у меня ничего не получилось. Я стараюсь, я понимаю, но вот любви нет. Боттичелли люблю, Леонардо люблю, Рафаэля – не понимаю. Но, тем не менее, надо пытаться.
А гораздо важнее, что, изменилось очень сильно отношение к современному искусству, а Рафаэль без меня переживёт моё прохладное отношение. Дело в том, что когда я был молодой, я мечтал о чём-то авангардном, и, поскольку в России всё это запрещалось, то я думал, что я уж приеду на Запад – я уж наслажусь вволю всем этим. Первое, что я купил, одна из первых книг, которые я купил, вообще одна из первых трат в моей жизни, был альбом Дали, Сальвадора Дали – о, вот теперь я наконец насмотрюсь! И чем дальше я изучал Дали, а я был и в Каталонии, я был в Кадакесе, где он жил, где его музей стоит, чем больше я жил, тем дальше я был разочарован не только в Дали, но и во всём сюрреализме, потому что когда всё можно, ничего не интересно, и нужно было что-то такое специальное придумать, чтобы остранить и сюрреализм. Например, Магритта я люблю гораздо больше. И это относится ко всему современному искусству, потому что раньше я видел в нём большее, а в какой-то момент я сдался и решил, что, ну, значит, без меня оно обойдётся. Я однажды был в Лондоне и видел огромную выставку, причём даром, там все музеи даром, и я постоял-постоял и решил всё-таки: нет, не пойду. Так что у меня есть свои ограничения, и я решил, что в моём возрасте – я уже дожил до 64 лет – я имею право выбирать. Но в молодости я, конечно, пытался бежать, «задрав штаны, бежать за комсомолом».
«А что Вы думаете про картины Глазунова?»
Ничего не думаю. Я думаю, что это всё жульничество, и эти псевдореалистические полотна... Вы знаете, это похоже на свадебный торт. Ведь он тоже реалистичный – там жених, невеста, голубки, но всё это очень убого. Кроме всего прочего, всё это такая дешёвая русофобская пропаганда. Пусть лучше Нестерова посмотрят.
«Какие книги можно почитать о Вагриче Бахчаняне? Из каких книг можно начинать узнавать о нём?»
Вагрич Бахчанян выпустил книгу. Это целая история, потому что когда началась перестройка и когда стало возможным печатать эмигрантские книги, Вагрич приготовил своё собрание сочинений, избранное такое. И он уже вёрстку сделал, я отвёз в Москву в чемодане вёрстку готовой книги. И, к сожалению, я годами не мог уговорить никого эту книгу напечатать. Мои лучшие издатели, включая Прохорову из «НЛО», никто не выказал интереса, пока на Урале – было такое издательство «У-Фактория» – не выпустили эту книгу, и хорошо её выпустили, так, как хотел Вагрич. Книга называется… Это только футурист, такой, как Вагрич, мог такое придумать. Называется она так: «Мух уйма». И это лучшее, что Вагрич собрал и сделал. Но вы её не найдёте, потому что она стала библиографической редкостью, и её очень трудно найти.
Но есть переиздания Бахчаняна, и выходят всё новые и новые книжки посмертные. Его вдова Ирина Бахчанян выпустила несколько книг после смерти Вагрича, и это замечательные книги. Записные книжки – изумительно смешно. Только что вышло новое издание книги «Не хлебом единым». Это такие…Трудно объяснить. Я написал предисловие к этой книге, как, впрочем, ко всем остальным книгам Вагрича, и это замечательная смешная работа, которая представляет собой кулинарный коллаж. Короче говоря, найдите в интернете, введите «Бахчанян», и вывалится оттуда куча всего, потому что он всюду. Многие, конечно, просто крадут у Бахчаняна. Однажды он мне сказал: «Что такое постмодернизм? Это когда все воруют у Бахчаняна и приписывают себе». И действительно есть его фразы, которые уже стали знаменитыми. Самая знаменитая, наверное, «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». И я видел сто, наверное, случаев, когда приписывается другому автору, но это придумал Бахчанян. Короче говоря, Бахчаняна найдите в интернете, и вы увидите, наберите его – и вы увидите массу всего.
«Гомбрих чудесный, очень легко и приято читается».
Совершенно с Вами согласен.
«И картинок много. Попробуйте ещё найти Гнедича, он недавно переиздавался».
Да, я знаю работы Гнедича. Много таких книг – и Бенуа есть замечательный. Но истории искусства, слава богу, повезло на хороших писателей, и, в общем, главное – найти то, что тебе по душе, и пользоваться этим. Потому что сами по себе эти книги – это пролог к посещению музея. И, в общем, это, знаете, как пособие по рыбалке – недостаточно читать, надо ещё и удочку забросить.
«Как Вы считаете, нужно ли делать вход в музеи бесплатным? А то Третьяковка 500 рублей стоит – очень дорого, у меня столько нет».
Я категорически уверен в том, что все музеи мира должны быть бесплатными, абсолютно убеждён в этом, и я знаю, почему. Есть разные способы. Например, в Вашингтоне все музеи бесплатные, просто бесплатные – и всё. А это – какая Национальная галерея в Вашингтоне, господи! Я всегда завидую вашингтонцам, хотя и у нас неплохо, но всё-таки такая галерея никогда лишней не бывает. Я знаю, почему я об этом говорю так уверенно. Потому что в Лондоне был проведён эксперимент, лет 10 назад, я не уверен в цифрах, но довольно давно: отменили входные билеты в музеи. Вдруг выяснилось, что посещение музеев выросло в 2, в 3 раза – гигантский рост. И на это надо тратить деньги налогоплательщиков, потому что музеи делают население лучше, музеи делают людей, которые живут в этой стране, богаче, умнее.
Это вопрос демократии: такие люди – более ценный материал для государства, и поэтому это оправданно. В Нью-Йорке существует такая практика. Лучший музей не только Нью-Йорка, а и Америки, как я говорил, Метрополитен. Вход в Метрополитен стоит 25 долларов, что много. Но там стоит маленькая такая надпись, маленькая строчка, где написано: 25 долларов – или сколько вы хотите дать. Вы обязаны заплатить что-то, хоть 5 центов, но вы обязаны заплатить, и это для того делается, чтобы любой человек мог ходить в музей. Я считаю, что это абсолютно правильно, и я считаю, что только так и надо, и если на что-то уж тратить государственные деньги, то именно на это. Представляете себе, сколько стоит одна ракета, которую сбрасывают – не будем говорить про Украину. Но я убеждён, что это гораздо разумнее – тратить деньги на такие вещи.
«Музей не народный, а национальный в Риге».
Да, национальный музей в Риге, извините, я ошибся, тем более что сейчас он называется вообще, по-моему, как-то иначе. Но так или иначе есть. Ну, вы поняли, о ком я говорил. Спасибо Вам.
«А надо ли стараться любить?»
Вы знаете, я убеждён в одном: в том, что чем больше мы знаем, тем больше мы любим, чем больше мы любим, тем больше мы знаем, чем больше мы знаем, тем богаче и интереснее наша жизнь. И знаете, я как-то посчитал ещё в молодости, что физических наслаждений у нас не так много – ну, четыре, скажем, пять, если сон считать, а вот духовных – бесконечное количество. И чем больше мы знаем, чем больше мы любим, тем больше мы наслаждаемся этой жизнью. А что ещё от неё нужно, как не наслаждение? Собственно говоря, это и есть то условие, с которым нас пустили в мир. Наслаждайтесь им, пользуйтесь им, а если отказываться от этого, то мы становимся беднее. А чем мы беднее, тем мы злее, тем мы глупее и тем мы реже способны любить и тем меньше получаем удовольствия от того времени, которое нам выпало на этой земле.
«Пробовали ли Вы коллекционировать картины, хотели бы?»
Хе-хе. Нет, коллекционировать картины, друзья мои, это слишком дорогое удовольствие. Но у меня есть несколько друзей-художников, которые подарили мне картины, а есть одна картина, которую я купил на свою первую зарплата. Она висит прямо сейчас передо мной на стене. Это картина Юрия Галецкого, которая изображает сломанную хризантему и на ней написано белым по белому «То немного». Это было упражнение дзен-буддизма, и мне она страшно понравилась, и свою первую зарплату грузчика я потратил на то, чтобы купить эту картину. Ну, есть картина Жени Шефа, например, моего друга из Берлина, берлинского художника, который замечательную картину мне подарил.
Есть у меня митьки, у меня есть картина митька, которая изображает заблудившуюся корову. С ней связана забавная история, потому что я купил у него эту картину, когда он был в Нью-Йорке, повесил на стенку. Пришли мои знакомые американские друзья, я перевёл им название картины – «Коровушка заблудилась», а они говорят: а где вымя? Я говорю: «действительно, вымени нет». И я послал письмо художнику, и говорю: «а что же Вы мне продали картину без вымени?» Он говорит: «ну что теперь делать?» Я говорю: «пришлите отдельно». Он говорит: «как я пришлю?» Я говорю: «по факсу». Он говорит: «ну откуда у митька факс?» Я говорю: «а вот у Флоренского, другого митька, у него есть факс». Он говорит: «ну, Флоренский – это импортный митёк, экспортный митёк». Так что эта картина так и не получила вымени, но я её очень люблю. То есть, короче говоря, у меня есть те картины, которые я от своих друзей, от Вагрича Бахчаняна получил, в основном. Но коллекционировать картины – слишком дорогое удовольствие.
«Есть ли у вас личная история с картиной, скульптурой, инсталляцией или музеем? Именно та, та самая?»
Вообще есть. Есть такой скульптор Джакометти. Мой любимый писатель много лет был, да и есть, Беккет. Мне кажется, что Беккет – это Чехов, ободранный до скелета. И однажды я в Провансе был в музее современного искусства и увидал картину Джакометти, которая изображает человека, идущего навстречу ветру. А как Джакометти лепил, вы знаете: это такие худенькие-худенькие фигурки, как будто бы из проволоки сделанные. И я посмотрел на эту скульптуру и решил, что это и есть портрет Беккета: такой изуродованный жизнью человек, который идёт против ветра и не сгибается. И только потом я выяснил, что да, действительно, Беккет и Джакометти дружили, они знали друг друга и восхищались друг другом. И я вот подумал, что даже не то чтобы я хотел такую скульптуру дома держать – я бы хотел просто такую позу уметь занимать, знаете, когда вот ты стоишь, и тебя ничто не сдвинет, никакой ветер, чтобы ни было, ты всегда сохраняешь себя и юмор. Вот это то, что мне нравится у Беккета, и это то, что я нашёл у Джакометти.
«А можно вопрос не по теме? Вы до сих пор считаете, что самая вкусная кухня в мире – грузинская?»
Нет. Я никогда так не считал, это неправда, Вы меня путаете с кем-то. Я считал всегда, что моя любимая… Во-первых, так нельзя сказать – «самая вкусная в мире кухня», потому что уже и так известно: самая вкусная в мире кухня – это французская. И самая вкусная кухня в мире – это китайская. Это две кухни, которые делят кулинарный Олимп. Но для меня главное – это моя любимая кухня, и в этом отношении моя любимая кухня русская, потом украинская, потом еврейская. Вот эти три кухни, которые я люблю больше всего. И чаще всего готовлю, конечно.
«И ещё: а у нас тут на аукционе продают огрызок карандашей Ахматовой. Скажите, как вы относитесь к мемориям? Храните ли мемории или, может быть, хотели бы приобрести что-то?»
Знаете, как Генри Торо, которому исполнилось 200 лет этим летом, он, когда он жил на Уолденском пруду, у него была хижина. И он однажды подобрал кусок известняка и положил его на стол, красивый, а потом он заметил, что с него нужно каждый день стряхивать пыль. И он сказал: «У меня ещё в голове не всё обметено» – и выбросил кусок известняка. Тем не менее, у меня есть несколько мемориальных вещей, которые я храню.
Один – это камень из пьедестала Дзержинского, который я считаю свидетелем русской свободы и который для меня важен. Камень из Берлинской стены – именно по тем же причинам. И ещё один камень, который мне подарили в Сербии. Так получилось, что в Сербии у меня много поклонников – семь книг моих перевели на сербский язык, уж не знаю, почему. И когда я однажды там выступал, ко мне подошла женщина и сказала, что она выловила, вытащила из Дуная камень, который ей напоминает мою книгу «Темнота и тишина». И она говори: положите на свой письменный стол, он будет Вам помогать сочинять. Этот камень так и лежит здесь. Вот. Видите, какой красивый.
Но огрызок карандаша Ахматовой – по этому поводу есть замечательная история о том, как Михалков, кто же там был второй соавтор Михалкова, который написал государственный гимн… Я забыл, как его зовут, но Сталину очень понравилось, и он исправил одно слово красным карандашом. И он спросил: чем я могу вам помочь, товарищи? Михалков сказал: квартира у меня плохая, писать стихи трудно. И он получил лучшую квартиру в Москве. А второй его соавтор – он спросил, говорит: мне ничего не нужно, только карандашик, которым вы исправили, можно? Сталин посмотрел на карандашик – ну, и отдал карандаш этому человеку, который так и остался с носом. Так что я к мемориям отношусь прохладно.
«Как Вы относитесь к такому виду искусства, как перформанс? Любите ли Вы перформансы Марины Абрамович?»
Марину Абрамович я просто ненавижу, и перформансы её тоже. Мне кажется, что это такое тяжёлое жульничество, что у меня сразу рука тянется к курку. Именно её особенно не люблю, потому что она мне кажется жуликом. Перформансы бывают разные, и когда они только появились, то в этом был смысл какой-то. Но чем дольше я живу, тем меньше мне это нравится. Ну вот, например, такой перформанс, о котором все знают: Олег Кулик, который представлял собаку. Я, кстати, познакомился с ним в Москве задолго до его перформанса. Он был очень милый человек, и мы были в гостях у Славы Курицына, у него за столом была только постная пищи, это пост был, между прочим. И он сказал, что он приезжает в Нью-Йорк, и я говорю: «ну, давайте в Нью-Йорке встретимся». Он говорит: «Я не могу, я буду в виде собаки». И действительно, я пришёл посмотреть на него, он голый сидел в клетке, лаял и представлял собаку. Особенно, конечно, мне это показалось диким, потому что этот перформанс был посвящён Бойсу – художнику, который уже сидел с койотом в клетке, и тот его, кстати, сильно покусал. То есть это было не только неинтересно, но ещё и не ново. Ну, неважно, в конце концов, имеет право.
Но дело в том, что эта выставка, как это назвать, я не знаю, это было такое помещение небольшое, где в клетке сидел голый Кулик и время от времени лаял. Довольно дружелюбно лаял. Но там прямо напротив была студия Эрнста Неизвестного, с которым мы, в общем, в хороших были отношениях. И он мне рассказывал, что произошло. У него был помощник, такой уральский скульптор, простой русский человек, который не говорил по-английски, он помогал Неизвестному. И Эрнсту было очень интересно посмотреть на этот перформанс Кулика, но ему было неловко – всё-таки он классик, великий художник, ну, «чё там он пойдёт». Он послал своего помощника. Через секунду вбегает помощник и кричит: «Эрнст Иосифович, где у нас топор? Пойду там всех порублю! Они русского человека, как собаку, в клетке держат!» Вот этот перформанс я считаю удачным.
«Как Вы относитесь к Дэмьену Стивену Хёрсту?»
Я только что рассказал. Это относится и к нему.
«Видели ли вы Democracy in America Кастеллуччи?»
А, я знаю, о чём Вы говорите: это была выставка в Гуггенхайме. Вы знаете, у меня, скажу честно, плохие отношения с современным искусством – мне оно кажется неинтересным, скучным и вторичным. Всё это было хорошо. Когда Дюшан выставил свой «Фонтан», это было ровно 100 лет назад, в 17 году, то есть писсуар когда он показал, то эта работа была потрясением, потому что он создал концептуальное искусство: вместо предмета, объекта он выставлял мысль, концепцию. Но это можно сделать только один раз.
«Дыр бул щыл» можно написать только один раз – второй уже не нужен. И современное искусство мне кажется очень вторичным. В том числе и концептуальное искусство, особенно если оно не смешное. Почему я так Бахчаняна любил – потому что у него оно было просто смешное, а обычно оно слишком серьёзное. И я невнимательно слежу за этим, не люблю, и не меня об этом надо спрашивать. В конце концов где-то надо поставить пределы свои. Знаете, однажды я разговаривал с Умберто Эко, был у меня такой счастливый случай в жизни. Я его спросил, что он думает о современной литературе. Он сказал: вся современное искусство – это «Джульетта», пересказанная на сленге своего времени. Но вообще, говорит, нельзя меня спрашивать об этом – надо спрашивать людей на поколение младше. Теперь я уже примерно в том возрасте, когда я говорил с Умберто Эко, и поэтому я очень осторожно отношусь к подобным вопросам.
«Как Вы оцениваете перформансы Пригова?»
Пригов – я хорошо, ну, не хорошо, но во всяком случае много лет знал Пригова и перформансы его видел, когда он вепрем кричал «Евгения Онегина». Он очень умный был, образованный человек, и некоторые стихи я его очень люблю. Например, строчка, которая долго висела в моём кабинете на радио «Свобода», сточка была такая: «Чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей». Это точно описывает, в том числе, и мою жизнь. Но в целом я не знаю, как относиться к Пригову, и это явление, которое само в себе. Что касается его перформансов, то лучший из них связан со мной и с тем же Бахчаняном, который сегодня просто играет главную роль. Дело в том, что Вагрич нашёл в книге Пригова фразу, которую придумал он, а я в это время собирался в Японию, где я знал, что встречусь с Приговым. И Вагрич мне сказал, говорит: передай, пожалуйста, от меня такое: «Приговор: Пригов – вор». Я сказал: хорошо. Приехал в Японию, встречаю, первым, кого я увидал там, был Пригов. Выпили, поболтали. Я говорю: Вы знаете, вот Вагрич вам просил передать такие слова: «Приговор: Пригов – вор». Тот сказал: «очень здорово, спасибо» – и в следующую книжку включил эту фразу. Это был перформанс.
«У Церетели тоже очень смешное искусство».
Оно не смешное, оно страшное, и когда я вижу Петра в Москве – это чудовищно. И кстати, по-моему, он собирался эту скульптуру подарить Нью-Йорку, и это должно было изображать Колумба. Но кого бы он ни изображал, это всё мне кажется страшным и глупым, и больше всего это напоминает… Эрнст Неизвестный сказал, что все современные скульптуры хотят изобразить скульптуру, они хотят сделать человека в штанах, и вот человек в штанах – это самое страшное, что может быть с городской скульптурой. И Церетели, конечно, уродует город, и правильно было бы его выкинуть, а на место Церетели поставить Неизвестного. У меня с ним был разговор на эту тему. Он сказал: «Все современные московские новостройки безликие. Что, если посередине вот этого микрорайона поставить мою скульптуру?» А у него масса проектов есть. Вот будет называться скульптура «Молчание», или «Задумчивость», или «Любовь», или «Отчаяние», или «Дружба» – не важно. Все эти скульптуры, они экспрессивны, выразительны. Он говорит: и сразу образуется такой градостроительный центр – вокруг скульптуры появится скверик, там будут сидеть бабушки и болтать, там дети будут играть, и сразу окажется центр притяжения. И, поскольку эти скульптуры достаточно абстрактные, а не люди в штанах, то каждый может вложить в них что-то своё, и именно поэтому они стоят того, чтобы ими украсить город. Если бы Церетели поделился с Неизвестным, было бы куда лучше.
«Как Вы относитесь к граффити?».
Ха-ха. Когда появилось граффити, мне очень это понравилось, потому что стихийное искусство – это народное искусство – оно не требует ничего, ни денег, ничего. В Нью-Йорке появился такой художник Кит Харинг, я немножко его знал, он был мастер граффити, и, в общем, стал знаменитостью. Он очень рано умер, по-моему, от СПИДа, так что это всё трагично закончилось. Но пока это было новым, это было забавно. Но сейчас я стал старше, и Нью-Йорк стал старше, и мне нравится город без граффити. Я не считаю, что таким образом можно его украшать, потому что это всё-таки бандитское искусство, и оно создаёт такой трущобный характер города. В моё время, когда я приехал в Нью-Йорк, Нью-Йорк был в самом худшем состоянии за всю свою историю. Но я-то этого не знал, потому что я ничего не знал. Мне говорили: 17% инфляция. Я не знал, что такое инфляция. 17% безработицы – я говорил: ого, значит, 80% всё-таки находят работу. Но в этом городе было всё перепачкано граффити, в том числе поезда подземки, метро. И городские власти сделали такую штуку: они один поезд очищали, седьмой, очищали от граффити, красили белой краской, и он назывался Моби Дик, белый кит, который ездил среди грязных поездов метро. Это всё так понравилось, что, в конце концов, в Нью-Йорке избавились от граффити.
«В России создаются инновационные культурные центры – так Медведев повелел. В этих центрах учат отличать современное искусство от актуального. А Вы знаете, чем отличается современное искусство от актуального?»
Я думаю, что догадываюсь: актуальное искусство – это имеет отношение к политике, а современное – не всегда. Но я не думаю, что такие тонкие различия стоит вводить. Это мне напоминает рассказ моего любимого писателя Валерия Попова, который говорит, что во время перестройки создали Институт культуры, который должен был отделять порнографию от эротики, и 300 человек там работали. И директор института напился и сказал, что разницы нет, и всех 300 человек уволили. Это печальная история, я, кстати, помню, когда я приехал в Россию первый раз в 1991 году после эмиграции, то я разговаривал с одним человеком, который был связан с культурой, культурной политикой, и он сказал, что сейчас в Москве работают 300 культурологов. Я говорю: господи, как много, я знаю двоих – Лотмана и Умберто Эко, а у вас сразу 300 человек. Он говорит: ну, видите, у нас был институт экскурсоводов по ленинским местам, его закрыли, а их всех назначили культурологами. Это мне напоминает актуальное искусство.
Спасибо всем за вопросы.
на email:
Валиуллин Ринат Рифович
Райн Александр
Силлов Дмитрий Олегович
Рон Мерседес
Вялов Сергей Сергеевич
Клайн Эрнест
Кельн Ольга Леонидовна
Кин Кэролайн
Вагнер Яна
Кинг Стивен
Стайнер Кэнди
Бобылева Дарья Леонидовна
Уэльбек Мишель
Сойта Марина Алексеевна
Михалкова Елена Ивановна
Бьорк Самюэль
Ускова Ольга Анатолиевна
Елизаров Михаил Юрьевич
Итагаки Пару
Рэйн Сола
Суратова Екатерина
Читайте также
Политика публикации отзывов
Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:
1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт
На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте support@ast.ru.
2. Мы за вежливость
Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.
3. Ваш отзыв должно быть удобно читать
Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.
4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки
Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.
5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»
Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».
Дайте жалобную книгу
Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.
6. Отзыв – место для ваших впечатлений
Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте support@ast.ru.
7. Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.
В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.
8. Мы уважаем законы РФ
Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.




















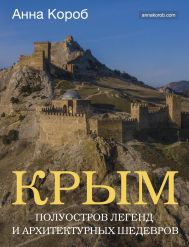














Для этого войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.