
30 глав АСТ: интервью с Гузель Яхиной
— «30 глав АСТ» продолжаются. Это серия встреч с писателями и знаковыми авторами издательства, приуроченная к его 30-летнему юбилею Издательства АСТ. И сегодня у нас в гостях — писатель Гузель Яхина.
— Гузель, здравствуйте!
— Добрый вечер!
— Спасибо, что к нам присоединились. Кстати, писатель или писательница?
— Спокойно отношусь к любому из этих названий.
— Хорошо. Мне, кстати, сказал редактор, что мы с вами встречаемся в Zoom, потому что вы работаете над вашей третьей книгой. Если не секрет, уже можете рассказать, о чем она? Потому что до этого вы вообще не говорили о ней.
— Нет, не говорила. Просто потому, что рассказывать, конечно, надо о сделанном. Лучше о том, что уже принято к печати или издано. Но сейчас, наверное, уже можно немного рассказать: текст почти закончен. Очень надеюсь, что в какие-то ближайшие дни я смогу кому-то его показать. Елене Шубиной его отправить, в конце концов.
Да, это роман. Роман о спасении детей из голодающего Поволжья. Действие происходит в 1923 году на одном из «поездов Дзержинского». Так называли эшелоны, которыми детей из голодающего Поволжья (и не только из Поволжья) отсылали в более сытые губернии, спасали таким образом. Вот об одном таком поезде, о таком вот пути длиной в 6 недель и 4 тысячи верст идет речь. Это роман-путешествие, роман-приключение. Командир эшелона — фронтовик, но с очень мягким сердцем. Сопровождающая эшелон детский комиссар, наоборот — женщина с мужским характером. И пять сотен детей, в основном, беспризорников. Сюжетно — это странствие героев. А если говорить о сути, то, конечно, это роман о голоде в Поволжье.
Видеоверсия интервью. Наш гость Гузель Яхина.
— И опять 20-е годы, как я понимаю...
— Так и есть. Раннее советское время мне очень интересно, и невероятно интересно об этом писать.
— А чем вам интересен именно этот период?
— Это период, когда все началось — пошел отсчет новой истории, которая до сих пор длится в России. Когда мы учились в школе, например, было такое ощущение, субъективно (думаю, что у многих моих одноклассников тоже), что до 1917 года практически ничего не было — и что вся наша история началась в 1917 году. Позже, уже в 80-е годы, 90-е годы, когда о советском времени стали рассказывать много правды, особенно о его зарождении и самом начале, это меня ошеломило. Первые десятилетия советской эпохи притягивают как магнит — до сих пор. Интересно и просто читать об этом, и копаться-разбираться, и погружаться. Чем больше погружаешься, тем интереснее — замкнутый круг. Поэтому пока я мысленно обитаю в том времени. Не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что третий роман тоже получится об этом времени — не в том смысле, что действие происходит в 1923 году, а в смысле, что роман рассказывает в первую очередь о сути того времени.
Яхина Гузель Шамилевна
— Я читал ваше интервью, и вы говорили, что специально не читаете художественную литературу, пока пишите книгу. То есть сейчас, наверное, вы тоже работали с архивными материалами и дневниками?
— Да, так и есть. Интереснее, конечно, погружаться в историю через настоящее, через правду. Есть такой подход — его тоже иногда использую — погружаться через взгляд другого художника, например, через взгляд режиссера, или оператора, или, может быть, какого-то писателя. Но интереснее и продуктивнее идти через глаза и через восприятие обычных людей, которые рисуют или фотографируют время, в котором живут. Когда я работала над романом «Дети мои», мне очень помогали картины художника, который жил в немецком Поволжье в ранние советские годы. Он был реалист — просто описывал в своих картинах повседневную жизнь Немецкой Республики: будни колхозников, ледоход и ледостав на Волге, сельские праздники, сбор урожая, варку «арбузного меда»... Это картины Якова Яковлевича Вебера, которые сейчас висят в этнографическом музее Энгельса. Я их все перефотографировала и очень часто к ним обращалась, когда писала текст.
— Вы находили источники в интернете или приходилось по старинке идти в библиотеку и что-то там брать, потому что книга не оцифрована или просто ее нет в электронном виде?
— Во время написания романа о голоде в Поволжье, конечно, была и в архивах, и в библиотеках — далеко не все есть в интернете. А когда писала предыдущий роман «Дети мои», какие-то книги даже пришлось выписывать из европейских библиотек, просто потому что в наших библиотеках их не оказалось. И по межбиблиотечному абонементу все сработало прекрасно, правда, заняло полтора месяца. Книжки доставили из Вены и из Мюнхена — я их в читальном зале получила на руки и могла пользоваться месяц или полтора. Отфотографировала все страницы и пользовалась потом уже дома фотографиями. Так что, конечно, библиотеки очень помогли. Архивы, в случае с третьим романом, — тоже.
Яхина Гузель Шамилевна
— А в библиотеках вас узнавали библиотекари либо читатели?
— Нет.
— В этом плане не отвлекали от работы, тогда получается?
— Совершенно нет.
— А долго работали над этим романом?
— Два с половиной года.
— Вы как-то говорили, что постараетесь его закончить, но не факт: может быть, и не получится. Почему была такая неуверенность? Вроде и тема знакома вам, и место, и время.
— Никогда нельзя быть уверенным, получится роман или нет — пока не допишешь до точки. Во-первых, очень серьезная тема, и я боялась не справиться с ней. До сих пор не очень понимаю, справилась ли. Пускай Елена Данииловна уже скажет, справилась я или нет. Во-вторых, боялась, что текст получится очень тяжелым, что читателю будет сложно его читать. Это был отдельный вызов: я очень много сил и мыслей потратила на то, чтобы сделать текст интересным для читателя, захватывающим, увлекательным, где-то даже развлекательным, не побоюсь этого слова, — а ведь это очень серьезный материал, трагический материал! Поэтому, конечно, было очень много сомнений.
— А как вы работали над романом? Каждый день утром, днем, вечером? Был у вас какой-то, не знаю, условный график?
— Ну, графики, конечно, можно рисовать, это вдохновляет. Другое дело, что они соблюдаются нечасто. Сначала обычно бывает длинный период подготовки: погружение во время, в место действия, в саму тему и материал. Делаю это довольно беспорядочно: начитываю все, что попадается в руки, насматриваю хронику, фотографии, художественные произведения. Просто делаю такой вот нырок вглубь темы. А когда из материала выныриваю — уже пытаюсь строить сюжет и структуру. Создать интересный читателю сюжет и уложить его в такую структуру, которая будет выражать тему — вот это занимает очень много времени. Если брать 100% времени работы над романом, то процентов 40-50 занимает построение сюжета и структуры — сплетение, вывязывание, вырисовывание узора истории. Уже позже, когда такой узор сплетен, его можно расписывать в текст. И вот это расписывание — действительно работа планомерная, по утрам обычно, желательно каждый день: два, три, четыре, пять, иногда шесть часов написания текста. Изредка и десять-двенадцать часов случаются.
— А есть уже какое-то рабочее название у него?
— Вы знаете, я сейчас, наверное, не буду больше рассказывать. Просто потому, что об этом сначала пускай узнает Елена Данииловна Шубина. А уже потом, когда мы с ней все это посмотрим и обсудим и когда она скажет, что принимает роман к печати, и когда вместе определимся с названием — вот тогда и поговорим подробнее.
— Хорошо, договорились. Идем тогда дальше к следующей теме — нашумевшей экранизации романа «Зулейха открывает глаза». Ваша книга — одна из самых популярных и продаваемых российских книг за последние 5 лет. И, когда она вышла, тогда такого резонанса не было. Сейчас резонанс есть. Соответственно, два вопроса: почему тогда не было такого бурного обсуждения? И почему сейчас оно появилось? Это страна изменилась? Или это дело в формате? Хотелось бы услышать ваше мнение.
— Книгу прочитало не так много людей, как посмотрело фильм: аудитория телевизионного канала многократно больше аудитории любой книги. Когда роман о Зулейхе только был издан (в 2015 году), дискуссия уже развернулась. Но она была гораздо тише и локализована в Татарстане, в Казани: уже тогда прозвучали очень критически настроенные голоса о том, что книга очерняет татар, очерняет татарскую мать, татарскую женщину. Что жизнь татар была гораздо симпатичнее, чем показано в романе. Что в татарской жизни не было и следа языческих верований, которым подвержена Зулейха. Что сын Зулейхи Юзуф учит на поселении в Сибири не татарский язык, как полагалось бы, а русский, а позже и вовсе — французский. Что сбегает он из ссылки не в родную деревню, а в европейский Ленинград. Что Зулейха, в конце концов, забывает законного мужа и любит неверного — русского человека. Эта дискуссия велась, затем со временем затухла, а с появлением фильма опять возобновилась. Так что критика националистического толка не была для меня новой.
Что касается критики со стороны таких, скажем, по-сталински настроенных слоев... Она тоже была с самого начала и стала гораздо громче после выхода фильма. Книжку покупает обычно тот, кто знает уже о романе и хочет его прочитать, соответственно, готов к этой теме и неравнодушно к ней относится. А фильм посмотрели многие, в том числе те, кто не стал бы его смотреть, если бы знал, о чем идет речь. Поэтому прозвучала и критика в очернении советской истории, и даже как-то все это связали с грядущим Днем Победы, и увидели в этом что-то нечто преднамеренное... Также была критика со стороны тех, кому понравился роман и не понравился фильм. Это объяснимо. Очень часто экранизации не удовлетворяют тех, кто полюбил текст, и я с уважением отношусь к их мнению. Но я сама училась в сценарной школе — понимаю, что такое экранизация. Понимаю, как сильно страдает автор экранизации, пытаясь уложить в сценарий хотя бы часть смыслов, которые содержатся в тексте. Конвертация литературного текста в язык экрана — сложная штука. И то, что получилось в сериале режиссера Егора Анашкина, мне кажется очень достойным.
— Вы, кстати, дважды читали сценарий. Не было желания его подправить, сказать: «Слушайте, вот этот момент вы зря не взяли, нужно его добавить»?
— Нет, такого желания не было. Просто потому, что я сделала книгу, сделала текст, и за этот текст я отвечаю: каждое слово и каждая сцена выстроены и подогнаны друг к другу так, что мне это кажется правильным, красивым. Фильм делали другие «родители» — режиссер и продюсер. Они были отцами-создателями этого творческого продукта, поэтому здесь, конечно, я не должна была вмешиваться — слишком много мнений вредит творчеству. Создание фильма — это всегда процесс с огромным количеством вовлеченных сторон, и мой дополнительный голос не мог быть решающим, а значит, был бы лишним в хоре. Поэтому не хотелось мне подправить сценарий. Мне хотелось высказать все, что я думаю о нем, и я высказывала: все мои комментарии (их было много, они касались и ключевых вещей, и каких-то крошечных деталей) отсылались редакторам и продюсеру. Часть из них была учтена, часть не была учтена, но, повторюсь, здесь я выступала, скорее, консультантом. Если б я хотела писать сценарий, я бы за это взялась — мне это предлагали. Но такого желания не было. Я предпочла за это время написать новый роман.
— Новый роман? Имеются в виду «Дети мои», как я понимаю?
— Да.
— Он, кстати, тоже будет экранизирован. Я прочитал, что Алексей Учитель сразу сказал: «Да, мы покупаем права, мы будем его экранизировать». Как там вообще идут дела? Уже хотя бы начали снимать? Или проект пока все так и лежит?
— Нет-нет, снимать не начали. У Алексея Ефимовича Учителя очередь из творческих проектов. Собственно, в этой очереди «Дети мои» потихонечку приближаются, но еще не приблизились к началу работ. Знаю, что предварительная работа ведется, что в Германии искали сценариста. Но это все, что могу сказать. Я не в курсе того, как именно обстоят дела, и лучше, конечно, эти вопросы задавать Алексею Ефимовичу Учителю.
Я к нему и его творчеству отношусь с большим уважением. Единственное мое опасение — что вот в эти кризисные времена, в эти странные эпидемические времена могут возникнуть проблемы с бюджетированием. Сейчас киноиндустрия серьезно пострадала уже и пострадает еще больше. Поэтому финансовый вопрос, я думаю, сейчас самый главный для экранизации «Детей».
— Когда я узнал, что Алексей Учитель купил права и будет режиссером, мне вспомнились скандалы, связанные с его последними работами. «Матильда» — и громкое обсуждение «за» и «против» фильма. Сейчас вышел «Цой» — и опять: «Запретить!», «Убрать!». А нет ли опасений, что этот эффект, шлейф скандальности, растянется еще и на ваш фильм?
— Вы знаете, мое единственное опасение — что кризис в отрасли и вытекающая из этого кризиса финансовая ситуация не позволят снять фильм. Все, что касается каких-то скандалов, какой-то словесной мути, которая возникает вокруг работ режиссера, — это все пена, она сойдет и останется только фильм. Останется только творческое произведение, которое получилось хорошо или плохо, умно или глупо, тонко или лубочно.
— Вы говорили о критике, которая была сразу после выхода книги и есть сейчас. Как вы от нее защищаетесь, чтобы она не ранила вас очень близко?
— Критика любая ранит. Понятно, что и статья критическая может ранить, и высказывание в социальной сети, какой-то вопрос журналиста может ранить или реплика коллеги по цеху. Другое дело, мне кажется, если имеется очень серьезный внутренний критик, то он так измывается над автором в ходе работы над романом, что когда приходит очередь внешних критиков, то их слова уже воспринимаются легче. Мне с моим критиком внутренним тяжело, он у меня очень злобный. Зато когда текст уже готов и внутренний критик согласился с тем, что текст может быть показан кому-то еще, тогда полегче воспринимается критика внешняя.
— А ваши внутренний критик и внутренний цензор в одном лице? Или как-то разделены?
— Внутренний цензор — это ключевые этические установки автора, они никак не связаны с критиком. Можно ли писать о немцах Поволжья, не имея в жилах ни капли немецкой крови? Можно ли писать о детях, которые от голода превращаются в лежачих? Какую долю натурализма можно себе позволить, описывая голодающих людей? Вот на какие вопросы отвечает цензор. Иногда эти ответы даются не сразу, а в течение долгих переговоров с собой, это может длиться месяцы. А внутренний критик оценивает именно текст, именно историю, которая получается в итоге уже состоявшегося согласия с внутренним цензором.
— Первая книжка «Зулейха открывает глаза» была для вас очень личная. В том плане, что рассказывает, по сути, о вашей бабушке. Получилось в итоге ее понять? Потому что, как я понимаю, одной из задач книги было приблизиться к ней, понять ее.
— Вы знаете, да. Книга была не столько о бабушке, потому что биографического в романе о Зулейхе достаточно мало. Она была, скорее, о том времени, о тех условиях, в которых бабушка росла и воспитывалась. И да, мне это, конечно, помогло понять ее лучше, как мне кажется.
Меня необыкновенно трогают письма, в которых люди рассказывают об этом же: что роман о Зулейхе помог им лучше понять родителей, бабушек и дедушек. Это для меня самая большая награда. Потому что события нашего века, нашего сытого и спокойного времени — несмотря на все нынешние катаклизмы, несмотря на вирусы и экономические кризисы — эти события несравнимы с тем, что испытывали люди, которых вырывали из дома и отправляли за тысячи километров, в Сибирь, выживать в тайге. Из нашего времени сложно понять, что могли те люди чувствовать и как они могли думать. Я не всегда уверена, что правильно написала какие-то диалоги или правильно сформулировала действия героев. Но, если хотя бы чуть-чуть получилось, то уже хорошо.
— Как думаете, почему в наше время так по-разному оценивают прошлое? В данном случае — 30-е годы. Настолько полярные точки зрения, что люди готовы чуть ли не бить за свою правду. Почему мнения настолько поляризированны?
— Да, у нас в России очень сложные отношения с собственным прошлым. Наверное, это связано с тем, что в советское время произошло сочетание очень светлых, очень гуманных по сути коммунистических идей с совершенно антигуманным их воплощением. Это слияние воедино светлого и темного, античеловеческого и очень человеческого – неразрывное совершенно. Сложно даже для себя разъединить эти вещи. Наверное, поэтому отношение к коммунистическому прошлому такое разное. Кто-то видит в этом только светлую сторону, кто-то – только темную сторону. А на самом деле это одно и то же, просто слитое вместе. И разъять невозможно.
Одна моя бабушка благодаря советской власти поступила в Казанский университет и стала ихтиологом – после Революции женщины были уровнены в правах с мужчинами и смогли учиться в университете. Вторая бабушка была репрессирована и сослана этой же советской властью в Сибирь, провела там 16 лет. Один мой дедушка мальчиком был отправлен в детский дом, и это при живых родителях, потому что по вине коммунистического режима в стране свирепствовал голод, и детей невозможно было прокормить. А после дедушку вывезли на «поезде Дзержинского» из голодающего Поволжья в Туркестан и этим спасли – сотрудники Деткомиссии, которые подчинялись чекистам. Дедушка стал и всю жизнь оставался пламенным коммунистом.
Собственно, поэтому меня и привлекают эти ранние советские годы, что в них есть этот невероятный контраст, максимально возможный. Вдохновенность грядущей новой жизнью, восторг перед светлым завтра, искреннее горение коммунистическими идеями - и совершенно античеловеческие методы, которыми эти идеи претворялись в жизнь. Равные права мужчин и женщин, эмансипация женщин, декларация братства всех народов и всех людей мира, борьба с расизмом и шовинизмом – и миллионы жизней, загубленных во времена Большого голода или Большого террора, целые народы, депортированные из родных мест... Если взять любой год начиная с 1917 и дальше, любой год раннего советского периода будет вот об этом странном слиянии добра и зла воедино. Поэтому, наверное, это время для меня – магнит.
— А как думаете, кстати, что побеждало? Всегда добро? Или всегда зло?
— Какой-то странный вопрос. Что значит «побеждало»?
— В итоге чаще превалировали светлые идеи? Или картинка состояла из черных и серых тонов? Мы общались ранее с Людмилой Улицкой о 30-х годах — это террор, это ГУЛАГ. Как вам это видится? Действительно был период, когда было все плохо, а потом все хорошо, а потом опять все плохо? Если бы вы рисовали картины, они бы какого цвета были?
— Если обсуждать ранние советские годы, то был период – середина 20-х годов – когда светлые краски, можно сказать, возобладали. Как раз тогда кое-как справились с голодом начала 20-х годов, кое-как справились с невероятной детской беспризорностью, закончилась Гражданская война, начался НЭП, и вздохнуло немножко свободнее крестьянство, и даже пошла волна обратной эмиграции в Советский Союз. То есть, действительно, вот эта середина 20-х годов — это, наверное, то время, когда страна воспряла и поверила в то, что завтра будет лучше, чем вчера. До 1927 года, можно сказать, действительно превалировали светлые краски. Случился расцвет литературы и расцвет изобразительных искусств, кино в первую очередь, архитектуры. Невероятный душевный подъем, энтузиазм, вера в завтрашний день – у очень многих, особенно у художников. Ну а потом, начиная с 1927 года, когда оппозиция была изгнана из страны и Сталин пришел к единоличному правлению, случился перелом. Великий перелом. И краски, конечно, стали темнеть, стали чернеть, и больше такого всеобщего душевного подъема уже не было. Роман «Дети мои» - в том числе и об этом. Главный герой книги, деревенский учитель Бах, пишет сказки, и сказки эти сбываются — так ему кажется. До 1927 года эти сказки сбываются очень здорово, и очень богато, и очень плодородно, и очень ярко. А после 1927 – наоборот, сбываются предельно мрачно и жестоко. Поэтому «Дети мои» можно назвать романом о коммунистической сказке, которая не сбылась.
— «Зулейха» переведена на многие языки. А за границей ее тоже по-разному оценивают? Или там общество придерживается одной точки зрения, одного видения? Как вы считаете, насколько там книгу поняли и насколько она там, может быть, разделила читателей?
— Я бы не сказала, что она разделила читателей, скорее, как раз наоборот. Но можно сказать, что книгу действительно воспринимали по-разному. В романе есть несколько линий. То, что касается истории и политики, — раскулачивание и «раскрестьянивание», депортация, трудовые поселки – это очень близко читателям бывшего соцблока. Там никому не нужно объяснять, что такое репрессии, что такое высылка. Рассказывая о романе в Польше или Чехии, я видела, что люди принимают историю раскулаченной татарки близко к сердцу. Более того, читатели сами могли рассказать мне (и рассказывали) о своих родителях или бабушках и дедушках, которые испытали то же самое. В странах Западной Европы — нет. Там, скорее, приходилось действительно чуть больше объяснять: приводить цифры, рассказывать об этом времени и делать вводную в исторический контекст.
Если же говорить о мифологическо-национальной линии романа, то в восточных странах книжка понималась как близкая, может быть, даже родная. В том же самом Иране, например. Все сказочные существа, описанные в романе о Зулейхе – они, собственно, их, персидские, много веков назад пришедшие в татарскую мифологию. Поэтому в Иране не приходилось пояснять, кто такие дэвы, пэри или аждаха — все это читатели знали. И легенду о птице Симург тоже знали прекрасно. И коранический сюжет о Юзуфе и Зулейхе. И имена в романе – Зулейха, Муртаза, Юзуф, Салахатдин – это вполне современные иранские имена (у переводчицы романа отыскались родные со всеми этими именами). Поэтому там книга воспринималась несколько по-иному — роднее, может быть. Удивительным образом для иранцев эта история – не экзотическая, как для многих в России.
Что же касается книги «Дети мои», то здесь, в России, роман о немцах Поволжья вызвал реакцию такую умеренно-позитивно-заинтересованную со стороны самих российских немцев. А вот реакция в Германии была гораздо более острая. Это было удивительно и неожиданно, я не была к этому готова совсем. Но в Германии действительно эта тема не позабыта, как у нас – она не стоит, запыленная, где-то там на полке истории, это вполне актуальная тема, даже достаточно политизированная.
— Мы в рамках этого проекта общались с Владимиром Познером, и он отметил такой момент по поводу разного подхода к истории. У него в Германии есть внук Коля, и, когда ему было 10 лет, у него спросили: «Коля, что ты знаешь о Гитлере?» И он ответил: «Нам в школе рассказывали, что это ответственность всего немецкого народа, что весь немецкий народ виноват в том, что это было». И Владимир Познер говорил это в контексте того, что у нас все по-другому смотрят на такие вещи, как ответственность народа за определенные действия его руководства. Может быть, отчасти и поэтому в Германии тема 20-х годов, казалось бы, далекая, до сих пор жива?
— Может быть. А может быть, потому что в Германии очень много немцев – потомков тех, о которых написано в книге.
— Вы уже несколько раз сказали о сказочных аспектах в ваших романах. Не было идеи написать сказку? Борис Акунин попробовал и в итоге написал сказки народов мира, которые выйдут в конце года. Януш Леон Вишневский говорил: «Я вот тоже сказки напишу!» И написал. У вас внутри нет такого желания попробовать себя в этом формате? Отдельно сделать книжку сказок для детей…
— Сказки люблю, конечно, но писать сама вряд ли возьмусь. Это очень сложно. Столько хороших сказок написано и столько хороших мифов. Зачем еще плодить? Мне интереснее включать мифологический аспект в ткань повествования. Это дополнительная и очень мощная краска, иногда даже основа текста, но она хороша в комплексе, в общей ткани повествования.
— Я, кстати, читал, что у вас до первого романа еще были литературные произведения. Не думали опубликовать, что называется, раннюю прозу?
— Ох, знаете, такое дело… Они все потерялись. Дело в том, что это было давно, и с тех пор произошло в жизни много переездов, в том числе в другой город. В этих перемещениях тетрадочки куда-то делись. Жаль. Публиковать их, конечно, было бы нельзя, потому что это были очень ранние, очень сырые вещи, эдакие наивные опусы. Я помню их, но прочитать уже не смогу, увы: все осталось в прошлом.
— Хорошо. У меня, знаете, есть цитата, выписанная из «Зулейхи»: «Свобода подобна счастью, для одних вредна, для других полезна». Для кого она вредна может быть?
— Свобода может быть вредна только для тех людей, которые ее не хотят. Если человек сам не хочет свободы, сознательно или бессознательно, тогда она для него вредна. А если человеку нужна свобода, то это просто жизненная потребность, такая же, как вода или воздух.
— А разве могут быть те, кто не захочет свободы?
— Конечно. Есть люди, склонные к зависимостям, есть люди, склонные к подчинению — для них свобода вредна, их свобода пугает. Им она не нужна.
— В апреле вы говорили о том, что не могли бы сказать, что стали писателем. Я, если честно, удивился. Казалось бы, две книги, вы один из самых узнаваемых и известных писателей в нашей стране. И уже и премии есть, в том числе и «Большая книга», и «Ясная Поляна». Почему вы сказали: «Не могу все-таки еще называть себя писателем»? Когда, в какой момент вы скажете: «Да, я писатель»? Это зависит от количества книг? Или от чего?
— Не знаю. Может быть, количество книг, может быть, количество часов, проведенных за письменным столом. Это сложно — назвать себя, надеть на себя какую-то мантию. Опять-таки это лишняя ответственность, которую ты с этим словом на себя возлагаешь. Наверное, легче немножко обманывать себя и говорить: «Нет-нет, я не писатель».
— А кто тогда? Литератор?
— Спокойно отношусь к любому наименованию.
— Я как-то наткнулся у Хемингуэя на слова и даже их выписал: «Если награда приходит скоро, это часто губит писателя. Если она заставляет ждать себя слишком долго, это очень часто озлобляет его». У вас первый роман — и сразу максимальный, наверное, успех: и премия престижная, и вся страна зачитывается. Даже другие писатели советовали мне прочитать «Зулейху». Все писатели в один голос это говорили. Мне, знаете, очень хотелось бы у вас узнать: как на вас повлиял такой успех, что первая книга — и сразу на олимпе?
— Это, конечно, здорово, что звезды так сложились, я очень благодарна за это судьбе. Другое дело, что вместе с этим вниманием жерновами ложится на плечи ответственность огромная, и с ней очень тяжело двигаться дальше. С ней было необыкновенно тяжело писать второй роман. Потому что я боялась не потянуть, сделать слабее, хуже. Боялась не дойти до конца вообще. Было очень много страхов, и эти страхи были обусловлены этой самой ответственностью. Третий роман в этом смысле писался легче.
— А что или кто вас поддерживал, помогал преодолеть эти страхи и дойти до конца? И не просто до конца второй книги, до конца уже третьей книги...
— Во-первых, мне очень помогло, конечно, отношение Елены Данииловны Шубиной. Она очень мудра и тактична: не спрашивала никогда о сроках, а просто иногда, время от времени, интересовалась невзначай, как идут дела. И вот это ощущение свободы — что ты не связан какими-то обещаниями, каким-то внешним контролем — оно, конечно, очень много дало. Также было ощущение, что тебе доверяют. За это я очень признательна Елене Данииловне. А во-вторых, были близкие люди, которые поддерживали: они терпеливо читали все мои многочисленные попытки начать второй текст — а попыток этих было много, и все пошли в корзину. В итоге я как-то выплыла из этой болтанки, вырулила из круговерти начатых и незаконченных текстов — к тому началу, которое сейчас и есть в романе «Дет мои».
— Три коротких финальных вопроса. Они у нас общие ко всем писателям. Первый: помните ли вы день, когда принесли свою рукопись в издательство? Очевидно, что это было не так давно. Чем вам запомнился этот день?
— Нет, я не приходила в издательство с книгой — просто не знала, как это сделать. Знала, конечно, где оно располагается. Но кто бы меня пустил? Тем более к Елене Данииловне Шубиной! Я искала пути входа. И случайно совершенно в этих поисках, постучавшись во многие двери, обратилась к Елене Костюкович — она переводчик Умберто Эко, писатель и владелец литературного агентства. Это она уже отправила текст Шубиной. Вот так это получилось. Отлично помню письмо, которое пришло от Елены Костюкович: «Да, я возьму ваш текст в работу». Это был, конечно, восторг совершенный. Уже потом, намного позже, была встреча в редакции.
— Второй вопрос. Что посоветуете почитать из последнего вами прочитанного? Я понимаю, что вы не читали художественную литературу, пока работали, но, может быть, мемуары, воспоминания, дневники? Что-то, что вас поразило.
— Прочитала совсем недавно свежую книгу Марины Степновой — «Сад». И вполне ее советую. Это увлекательный и очень чувственный роман. Мне кажется, это роман, который полюбится читателям. А еще очень жду новый роман Евгения Водолазкина «Оправдание острова». Не читала еще, но уверена: нас ждет истинное удовольствие для ума и наслаждение волшебным русским языком.
— Спасибо! И третий, финальный вопрос. 30 лет АСТ, именинника принято поздравлять. Что пожелаете юбиляру?
— Что можно пожелать юбиляру? Конечно, хороших книг и хороших авторов! Вернее, сначала хороших авторов, а потом уже хороших книг!
— Спасибо вам большое! Будем с нетерпением ждать ваш третий роман — обязательно все его купим и прочитаем.
— Спасибо. Всего вам доброго!
— С нами была писатель Гузель Яхина.
на email:
Варламов Алексей Николаевич
Абгарян Наринэ
Кузнецов Анатолий Васильевич
Юзефович Леонид Абрамович
Читайте также
Политика публикации отзывов
Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:
1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт
На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте support@ast.ru.
2. Мы за вежливость
Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.
3. Ваш отзыв должно быть удобно читать
Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.
4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки
Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.
5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»
Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».
Дайте жалобную книгу
Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.
6. Отзыв – место для ваших впечатлений
Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте support@ast.ru.
7. Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.
В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.
8. Мы уважаем законы РФ
Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.





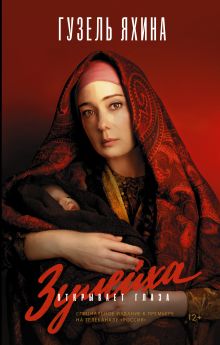







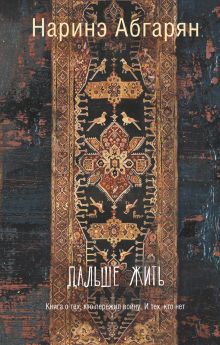








Для этого войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.